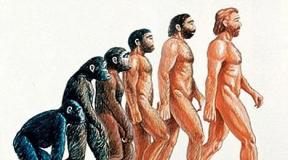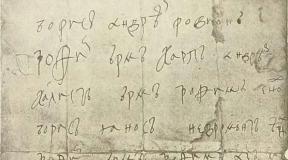Сергей спасский. земное время. Сергей спасский - земное время Сергей спасский
И в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской
Родился 10 апреля года в погосте Теремец Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Николая Спасского , служившего в храме Рождества Богородицы в этом селе.
В году окончил Перервинское духовное училище , в году - Московскую духовную семинарию и был назначен учителем в школу в селе Болотово Коломенского уезда.
В году был рукоположен во священника к Успенской церкви в селе Белые Колодези Коломенского уезда, где и прослужил всю жизнь, сопровождавшуюся преследованиями и арестами и окончившуюся мученически. Жили они вдвоем с супругой Ольгой, детей у них не было, и все свое время отец Сергий посвящал церкви.
В мае года председатели сельсоветов сел Белые Колодези и Васильево представили властям подброшенные им записки с угрозами и требованием уйти со своих постов. При этом сами они не могли указать, кто их написал, но председатель сельсовета села Белые Колодези все же сказал, что письма писались, вероятно, крестьянином их села Егоровым, который когда-то жаловался на него. Дело, однако, ничем не кончилось, так как ОГПУ не удалось доказать, что им написаны эти записки.
В ноябре года власти потребовали уплаты больших налогов с прихода Успенской церкви, рассчитывая, что они не будут уплачены и храм можно будет закрыть. Но этого не произошло. Крестьяне не оставили дома Божия на разорение и выплатили все налоги. Тогда в ОГПУ приняли решение об аресте священника.
30 декабря года следователь допросил арестованных. Никто из них не признал себя виновным; они были вполне уверены, что не станут обвиняемыми. Однако 9 января года всем им было зачитано постановление о предъявлении обвинения по делу "об антисоветской деятельности служителей культа и бывших торговцев" .
10 января года сотрудник ОГПУ допросил церковного сторожа; тот показал, что их священник "крайне религиозно настроен" , часто проповедует в храме, "несколько раз говорил, что… становится крайне тяжело жить, так как советская власть священство и вообще церковь обкладывает тяжелыми налогами, так что не знаешь, как и существовать" .
Были допрошены и другие свидетели, которые показали, что действительно власти потребовали, чтобы храм заплатил 1200 рублей налога. Было созвано собрание верующих, которое постановило: собрать в складчину по шести рублей со двора; эти деньги были собраны и внесены. Большинство мужчин, после того как увеличилось давление на прихожан, вышли из состава церковного совета, а вместо них вошли женщины из тех, что победнее. Отец Сергий одобрил это, сказав, что "так будет побезопаснее" .
Снова был допрошен председатель сельсовета, который показал, что церковный староста в то время, когда ещё имел свою кузницу, заставлял в нарушение кодекса о труде работать учеников в революционные праздники. В ноябре 1929 года была проведена хлебозаготовка. Священнику постановили сдать 30 пудов ржи, "он этот хлеб собрал по своим знакомым крестьянам, которые давали ему пудами… Спасский последнее время стал организовывать около церкви женщин фанатичек, которые втянуты в церковный совет, также в церковный совет втянут крестьянин слепой… из бедноты, которого они посылают в совет со всякими заявлениями и справками" . Председатель также сказал, что слышал, что после ареста отца Сергия верующие стали ходить в Покровский храм в соседнее село Сосновка, и служивший там священник отслужил молебен об арестованном пастыре и сказал настолько проникновенную о нем проповедь, что слушатели не смогли удержаться от слез.
19 января следствие было закончено, и отец Сергий, подписывая протокол об окончании следствия, в дополнение к нему заявил:
"в предъявленном мне обвинении виновным не признаю, так как никаких сборов я не устраивал и контрреволюционной агитации не вел, проповеди говорил только религиозно-нравственного содержания" .
29 января года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило крестьянина Сергея Егорова и церковного старосту Димитрия Захарова к трем годам ссылки в Северный край, а священника Сергия Спасского к трем годам заключения в концлагерь; Сергей Егоров, которого обвиняли в составлении писем с угрозами, через полтора года был освобожден без ограничения выбора места жительства, а отец Сергий через Бутырскую тюрьму был отправлен на все полных три года в концлагерь.
Из заключения он вернулся в тот же приход и с года снова стал служить в Успенской церкви.
19 и 21 ноября года следователь НКВД допросил свидетелей. Председатель сельсовета показал, что
священник "Спасский ведет контрреволюционные разговоры против новой конституции. Помню такой факт. В апреле сего года Спасский зашел в сельсовет и начал просить разрешения ходить по домам, и, когда я ему отказал, он заявил: "Пишете вы, коммунисты, много, а все у вас только на бумаге. Говорят, что новая конституция дает право верующим исполнять свои обряды, а вы запрещаете. Где же правда? Только одни разговоры".
Вызванный на допрос бригадир колхоза показал:
"В августе возле ларька Спасский среди колхозников говорил: "Происходит не поймешь что, и все это потому, что действует злой дух. Жизни для народа совсем не стало, но все же это должно кончиться. Хотя бы поскорее, а то смотришь на людей, и жаль их становится" .
Допрошенный колхозник, некий Иван Иванович, сказал:
"Помню в июле сего года возле своего дома в группе колхозников Спасский говорил: "Что же ты, Иван Иванович, перестал ходить в храм Божий или ты тоже продался большевикам? Но ведь помни, что они тебя к хорошему не приведут. Будешь также обманывать народ, как обманывают они".
21 ноября года отец Сергий был арестован и заключен в коломенскую тюрьму. В тот же день следователь, имея уже показания свидетелей, допросил его.
По имеющимся у нас сведениям нам известно, что вы проводите резкую контрреволюционную агитацию в селении Белые Колодези. Признаете себя виновным? - спросил его следователь.
Года для общецерковного почитания.
Использованные материалы
- Игумен Дамаскин (Орловский). "Священномученик Сергий Спасский". Московские епархиальные ведомости, № 11-12 за 2008 год
После Бальмонта приезжал Федор Сологуб с лекцией «Искусство наших дней». Внешне он выглядел проще. Лысая голова, малоподвижное бритое лицо, плотная невысокая фигура. Что-то почтенное, чиновное, размеренное было в этом проповеднике смерти. Он говорил, слегка растягивая слова, мягким, обволакивающим тенором. Читал стихи почти без распева с искусно выработанной, преподносящей каждую букву простотой. Он смаковал гласные, словно наслаждаясь их вкусом. Это чтение, даже вынесенное на эстраду, оставалось чтением для небольшого круга почитателей. Утомленность, как бы многоопытная пресыщенность присутствовали во всем облике поэта. Казалось, сейчас закроет он глаза, остановится, забудет обо всех. Грезящий чиновник, предающийся мечтаниям петербуржец, вежливый и невозмутимый. «Этика родная сестра эстетике», - поучал он плавно и равнодушно. Он рассказывал о пробуждении волевого начала в поэзии. Цитировал Городецкого: «Древний хаос потревожим, мы ведь можем, можем, можем». Затем прочел он свои стихи о России. Плыли фразы медленные и прохладные. «Твержу все те ж четыре слова: какой простор, какая грусть». Застывшая мозаика из гладких камней. Буддийски спокойное лицо поэта.
Но этот вечер заключал в себе острую приправу в виде выводимого в свет Сологубом Игоря Северянина. Северянину предшествовала некоторая молва. Впрочем, радиус ее действия был ограничен. До широкой публики совсем не доходили маленькие сборники, настойчиво публикуемые Северяниным. Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Федор Сологуб предпослал любезное предисловие.
И все же носились о Северянине смутные слухи. Юродствует. Поет стихи, как кафешантанный куплетист. И связывалось с именем Северянина новое, но уже подхваченное репортерами слово - футуризм. Что обозначает оно, в провинции не понимал еще никто. Мелькнуло известие в газетах о людях с позолоченными носами, явившихся на одну из питерских выставок. К такому сообщению примкнули другие, и все это были вести о скандалах, о молодых людях, устраивавших шумные вечера, обругивавших Пушкина и публику, выплескивавших в первые ряды чай из недопитых стаканов. Вести о раскрашенных физиономиях, о страшных одеяниях этих субъектов. О частых вмешательствах полиции. О том, что дело на некоторых диспутах доходило до драк.
И Северянин примыкал к футуристскому племени, выдавая себя за одного из вожаков. Правда, он вышел не раскрашенный и одетый в благопристойный сюртук. Был аккуратно приглажен. Удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на определенный отчетливый мотив.
Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Хотя и сами стихи, пересыщенные словообразованиями, вроде прославленного «окалошить», нашпигованные иностранными словечками, а главное, чрезвычайно самоуверенные и заявляющие напрямик о величии и гениальности автора, звучали непривычно и раздражающе. Но вряд ли публика особенно в них вникала, улавливая разве отдельные, наиболее хлесткие фразы. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Все это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, устремленным поверх слушателей, с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы. Некоторые, измученные хохотом, с красными лицами бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слыхал. И страннее всего, что через полтора-два года такая же публика будет слушать те же стихи, так же исполняющиеся, в безмолвном настороженном восторге.
Я был тогда в шестом классе гимназии. Писал, подражая символистам. Только что вышел сборник тифлисских литераторов «Поросль», где находились и мои стихи. Заглянув в артистическую после вечера, я увидел, что сборник преподнесен Сологубу.
Дождавшись момента, когда все разошлись, я сбивчиво объяснил, что участвую в альманахе. Просил Сологуба высказаться о моих вещах. Он предложил навестить его на следующее утро.
Сологуб встретил меня невозмутимо. Он уселся в кресло у окна. Закинув ногу на ногу, постукивая каблуком лакированной туфли, некоторое время он рассматривал меня молча. Сборник лежал на столе. Сологуб раскрыл его и посмотрел на стихи.
Свет из окна падал на его желтоватое, неподвижное, пожилое лицо. Сологуб начал говорить о поэзии. Моих стихов он почти не касался. Мимоходом отметил, что одно из них - близкое подражание Вячеславу Иванову. А в другом, воспевающем сказочных принцесс, выражены чувства, вряд ли мною испытанные. И начал объяснять следующее.
Если человеку хочется изложить свои мысли и чему-нибудь научить людей, то стихи можно и не писать. Достаточно ограничиться прозой или заняться публицистикой. Поэт - тот, кому нравится форма стиха, кто любит рифму и ритмическое распределение слов. Так же, как хороший военный не тот, кто вообще готов защищать родину. Но тот, кто в детстве любит играть в солдатики, кому нравится военная форма и парады.
На такую парадоксальную тему Сологуб говорил долго и веско. Это был законченный формалистско-эстетский взгляд на искусство. - Решать вопрос, - продолжал Сологуб, - о способностях другого бесполезно. Пусть сам он, исходя из высказанного, определит, поэт он или нет.
Несколько разочарованный столь безличными высказываниями и фразой вроде того, что «в молодости все пишут стихи», я поблагодарил и простился. Мы пошли через смежный номер. Там находился Северянин.
Он полулежал на диване в старой тужурке, невыспавшийся, с несвежим, опухшим лицом. На столе перед ним - графин водки и тарелка с соленым огурцом. Отрывисто и важно он сообщил, что вскоре выйдет «Громокипящий кубок». Рядом с тарелкой лежали стихи Северянина, перепечатанные на машинке. Мне очень хотелось их прочесть, но я не решился обратиться к Северянину со столь смелой просьбой.
<...> Футуристы готовились к очередному проходу по улицам. Надо взбудоражить город. Через день предстоит выступление. Поэты раскрасили лица гримировальным карандашом.
Мы спустились на Головинский проспект. День полон тепла и солнца. Футуристы продвигались серьезно, словно совершая необходимую работу. Лицо Бурлюка под черным котелком окаменело от важности. Высоко закинута голова Маяковского. Прохожие расступались перед ними, не зная, как обращаться с подобным явлением. Люди отходили в стороны и потом смотрели в спины идущим.
Это американцы? Правда? Это американцы приехали? - подскочил ко мне гимназист, увидев, что я простился с поэтами.
В театры, на концерты, на лекции учащихся пускали с разрешения начальства. Не уверенный, что инспектор одобрит мои литературные вкусы, я получил у Бурлюка его визитную карточку, чтобы пройти за кулисы. На квадратном куске шероховатого, неровно обрезанного картона оттиснуто убедительным шрифтом без заглавных букв и знаков препинания: «давид давидович бурлюк поэт художник лектор». В назначенный вечер я торопился к театру. Навстречу прошел Маяковский. Он размахивал руками, разгребая толпу напрямик. Маяковского сопровождал гимназист, кажется его родственник. Маяковский громко разговаривал, словно проспект был его личной квартирой. Вечерний город удивительно соответствовал его сразу запоминающемуся облику. Охваченный полосами электрического света, Маяковский прогуливался перед выступлением. Это входило в его привычки. Так мне объяснил Бурлюк, когда я добрался до сцены.
За опущенным занавесом на покатом помосте казенного оперного театра стоял длинный стол. На заднем плане большой холст для демонстрации диапозитивов. На столе - веерами пестрые издания футуристов. Сбоку - нотный пюпитр, взятый, очевидно, из оркестра.
Бурлюк обольщал гостей. Это были две маленькие девушки, кажется, дочери персидского консула.
Настоящие персидские принцессы, - с удовольствием заявлял Бурлюк.
В любом городе в кратчайший срок Бурлюк обзаводился знакомыми. В отличие от Маяковского он обладал поразительной приспособляемостью. Он извлекал нужных людей, заготовлял их впрок для использования. С девушками держался изысканно, томно мурлыкал, поигрывая лорнетом.
Маяковский вломился на сцену в криво заломленной феске.
Тигр. Это наш тигр! - не преминул восторгнуться Бурлюк.
Я устроился в маленькой служебной ложе, расположенной над самой сценой, за занавесом. Занавес, громко шумя, двинулся вверх к колосникам. Футуристы сидели за столом. Бурлюк выдержал паузу. Потом он приподнял со стола огромный неизвестно где добытый колокол и, огласив зал его церковным звоном, предоставил Маяковскому слово.
Маяковский швырнул феску на стол. Не оправив сбившиеся, взлохматившиеся волосы, шагнул вбок и остановился перед пюпитром. Он говорил, раскачиваясь всем телом. Его голос широко разлился по залу.
Милостивые государыни и милостивые государи. Вы пришли сюда ради скандала. Предупреждаю, скандала не будет.
Его рука придавила пюпитр, толкала и мяла его. Маяковскому присуща была природная театральность, естественная убедительность жестов. Вот так, ярко освещенный, выставленный под перекрестное внимание зрителей, он был удивительно на месте. Он по праву распоряжался на сцене, без всякой позы, без малейшего усилия. Он не искал слов и не спотыкался о фразы. В то же время его речь не была замысловатой постройкой, образованной из контрастов, отступлений, искусных понижений и подъемов, какую воздвигают опытные профессиональные ораторы. Эта речь не являлась монологом. Маяковский разговаривал с публикой. Он готов принимать в ответ реплики и обрушивать на них возражения. Такой разговор не мог развиваться по строгому предварительному плану. В зависимости от состава слушателей направлялся он в ту или иную сторону. Это был непрерывный диспут, даже если возражения не поступали. Маяковский спорил с противником, хотя бы и обнаружившим себя явно, расплющивая его своими доводами.
И, собственно, не в доводах суть, а в ярком одушевлении и убежденности.
Содержание его слов было достаточно простым и обозримым. Оно изложено в соответствующих манифестах, и нет нужды его воспроизводить. Там утверждалось городское искусство, обогащенное восприятием скорости. Мимоходом громились классики. В этих местах в невидимом мне зале вспыхивал испуганный смех. Маяковский представлял публике поэтов - Хлебникова, Бурлюка, Северянина.
Вы можете не заметить на улице меня, вы пройдете мимо любого из нас, но если над городом зарокочет аэроплан, вы остановитесь и поднимете головы.
Его речь опиралась на образы, на сравнения, неожиданные и меткие. И все-таки, изложенная на бумаге, она утратила бы половину энергии. Сейчас ее поднимал и укреплял горячий, мощный, нападающий голос. Голос принимался без возражений, и даже смешки в рядах были редки. Даже самые враждебно настроенные или равнодушные подчинялись этой играющей звуками волне. Особенно, когда речь Маяковского, сама по себе ритмичная, естественно переходила в стихи.
Он поднимал перед аудиторией стихотворные образцы, знакомя слушателей с новой поэзией. То торжественно, то трогательно, то широко растягивая по гласным слова, то сплющивая их в твердые формы и ударяя ими по залу, произносил он стихотворные фразы. Он двигался внутри ритма плавно и просторно, намечая его границы повышением и соскальзыванием голоса, и, вдруг отбрасывая напевность, подавал строки разговорными интонациями. В тот вечер он читал «Тиану» Северянина, придавая этой пустяковой пьесе окраску трагедии. И вообще, непонятный, ни на чем не обоснованный, опровергаемый его молодостью, его удачливой смелостью, но все же явно ощутимый трагизм пронизывал всего Маяковского. И, может, это и выделяло его из всех. И так привлекало к нему.
И когда его речь доходила до стихов, зал становился совершенно неподвижным.
Он прочел «Смехачей» Хлебникова и затем много своего. В его чтении заключалась еще одна особенность. Чтение доставляло ему самому удовольствие. Читая стихи, Маяковский выражал себя наиболее полным и достойным образом. Вместе с тем это не было чтением для себя. Маяковский читал для других, совершенно открыто и демократично, словно распахивая ворота и приглашая всех войти внутрь стиха.
Я знаю, когда я кончу, вы будете мне аплодировать.
И действительно, после заключительной фразы грохотом хлопков ответил зал Маяковскому.
Следующим выступал Василий Каменский. В те времена он еще не развернулся. В крупного чтеца он превратился впоследствии. Читал свое и Бурлюк.
Второе отделение заполнилось докладом Бурлюка о новых течениях в живописи. Обстоятельное и блестящее сообщение, вскрывающее мастерство Сезана, Гогена, Матисса и Пикассо. На сцене выключен свет, на полотне при помощи волшебного фонаря воспроизводятся снимки с картин. Чтобы поддразнить публику, Бурлюк умышленно спутал одну из рафаэлевских мадонн с рекламной журнальной фотографией. В остальном лекция была веской и добросовестной. Бурлюк - острый, находчивый докладчик-педагог. С упорством подлинного просветителя внедрял он в слушателей полезные сведения.
Хорошо читал, Додя, - одобрил потом Маяковский. <...>
Однажды кафе посетил Северянин. В тот недолгий период он «сочувствовал» революции и разразился антивоенными стихами. Это не помешало ему вскоре перекочевать за границу и навсегда порвать с российской действительностью. Но тогда пожинал он здесь последние лавры, призывая к братанию и миру. В военной гимнастерке, в солдатских сапогах, он прибыл обрюзглый и надменный. Его сопровождала жена - «тринадцатая и, значит, последняя». Заикающийся, взлохмаченный ученик, именовавшийся почему-то «Перунчиком». И еще какие-то персонажи. Всю компанию усадили за столиком на эстраде. Маяковский поглядывал на них искоса. Однако решил использовать их визит.
Он произнес полушутливую речь о том, что в квартире нужны и столовая, и спальня, и кабинет. Ссориться им нет причины. Так же дело обстоит и в поэзии. Для чего-нибудь годен и Северянин. Поэтому попросим Северянина почитать.
Северянин пустил вперед «Перунчика». Тот долго представлялся публике. Читал стихи Фофанова и Северянина, посвященные ему самому. «Я хочу, чтобы знала Россия, как тебя, мой Перунчик, люблю». - Меня одобрили два гениальных поэта. - Все эти подпорки Перунчику не помогли. Опустившийся, диковатый и нетрезвый, читал он неинтересно и вяло.
Был пьян и сам Северянин. Мутно смотря поверх присутствующих в пространство, выпевал въевшийся в уши мотив. Казалось, он не воспринимает ничего, механически выбрасывая хлесткие фразы. Вдруг покачивался, будто вот упадет. Нет, кончил. И, не сказав ни слова прозой, выбрался из кафе со всей компанией.
Известный организатор поэтических вечеров Долидзе решил устроить публичное «состязание певцов». Вечер назывался «выборы короля поэтов». Происходил он все в том же Политехническом. Публике были розданы бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Выступать разрешалось всем. Специально приглашены были футуристы.
На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров.
Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинною очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не поместившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал «Революцию», едва находя возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народа, тем читал он свободней. Тем полнее был сам захвачен и увлечен. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок.
Но «королем» оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своем обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнущийся и «отдельный».
Я написал сегодня рондо, - процедил сквозь зубы вертевшейся около поклоннице.
Прошел на эстраду, спел старые стихи из «Кубка». Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.
Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.
Северянин собрал записок все же больше, чем Маяковский.
«Король шутов», как назвал себя Дуров, объявил имя «короля поэтов». Третьим был Василий Каменский. Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом; «долой всяких королей».
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
СЕРГЕЙ СПАССКИЙ. ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ1
Избранное.
Книги стихов Сергея Спасского:
Как снег. М., «Млечный путь», 1917.
Рупор над миром. Пенза, «Центропечать», 1920.
Земное время. М. «Узел», 1926.
Неудачники. М., «Никитинские субботники», 1929.
Особые приметы. «Издательство писателей в Ленинграде», 1930.
Да. Л., «Издательство писателей в Ленинграде», 1933.
Пространство. Л., Гослитиздат, 1936.
Стихотворения. Л., «Советский писатель», 1958.
Вадим Шефнер. Маленькое предисловие
Поэты пишут не для себя лично. Они пишут для читателей, для живых людей, соседствующих с ними во времени. Всякое искусство, а стихи в особенности, – это беседа с современниками. Но чем правдивее и естественнее беседует поэт с читателем-современником, чем полнее он отражает и выражает тревоги и радости своего времени – тем ближе он будет и будущему поколению. И получается, что стихи – это не только разговор с сегодняшним другом, но и послание другу завтрашнему, письмо в будущее.
Уже полтора десятилетия нет с нами поэта Сергея Спасского. За эти годы в советской поэзии произошло немало перемен. Появилось много новых поэтов; окрепли голоса тех поэтов, которые пятнадцать лет тому назад были совсем еще молодыми; выросли новые кадры читателей и любителей поэзии; повысились требования к поэзии. Но подлинное искусство всегда остается искусством, ему не страшны смены литературных мод и веяний, ему не опасны смены читательских поколений. Лучшие стихи и поэмы Спасского не устарели, они прочно вошли в неделимый фонд советской поэзии. Сегодняшний читатель прочтет их с таким же душевным волнением, с каким читали их современники поэта.
В стихотворении «Материал», которое Спасский написал в тридцатые годы, поэт рассказывает нам о том, как с возрастом стал он «упорным историком», как по частицам, по обрывкам сбивчивых фраз очевидцев он восстанавливает образы минувшего. Это нелегкий труд, но –
…вдруг сквозь признания бедные,
Записок пласты вороша,
Дохнет революций победная,
Не знавшая страха душа.
И сразу все поле прополото,
И тотчас промыто стекло,
И в руки крупинками золото
С единственным блеском легло.
Читая эту книгу, ценитель стихов ощутит в ней дыхание революционных и первых послереволюционных лет; найдет он в ней и золотые крупинки подлинной поэзии, которые западут ему в душу и сделают его жизнь богаче и полнее.
Первая книга Сергея Спасского вышла в 1917 году, когда поэту было восемнадцать лет. Всего же его перу принадлежат семнадцать книг, в число которых входят не только стихотворные, но и прозаические. Среди них – воспоминания о Маяковском, память о дружбе с которым автор пронес через всю свою жизнь, и два романа – «Перед порогом» и «1916 год». В эту книгу – «Земное время» – вошли лучшие стихотворения Спасского. Несмотря на то что прошло немало лет с той поры, когда они были опубликованы впервые, все они звучат своевременно и в наши дни. И стихи времен гражданской войны, и стихи первых наших пятилеток, и стихотворения блокадных и послевоенных дней – все они написаны с глубокой искренностью, с взволнованной заинтересованностью в происходящем. Вот эта-то личная, сердечная заинтересованность поэта в том, что окружало его, и дает его произведениям тот запас прочности, который позволяет им существовать во времени.
К ясности и простоте стиха поэт пришел не сразу. Путь его в советской литературе был труден и сложен, он испытал на себе немало влияний, прежде чем выработать свою манеру поэтического письма. Но всем его стихам – и ранним, и поздним – свойственно одно: это стихи не стороннего наблюдателя, это стихи участника событий. И недаром в стихотворении «Вступление» есть у него такие строки:
Поэта давно нет с нами. И в то же время он существует, – существует в поэзии, живет среди живых. Сквозь строки, сквозь образную ткань стиха, – мы видим его живое лицо. Мы видим человека глубоко чувствующего, умно думающего и умеющего тонко и поэтически точно поведать нам о своих думах и чувствах. Многими своими стихами он напоминает нам о прошлом – и это не только его прошлое, но и наше. Не в этом ли заключается одна из задач и радостей поэзии, что поэт дарит нам былое? Без него мы могли бы многое забыть, утерять навсегда. Облекая наши воспоминания, порой неясные и расплывчатые, в ясную поэтическую форму, он приобщает наше минувшее к настоящему и тем самым помогает нам заглянуть в будущее. Ибо будущее прорастает не только из того, что есть в сегодняшних быстротекущих днях, но и из прошлых наших дней.
I
«Слова. Они еще не те…»Под первый снег
Слова. Они еще не те.
Неповоротливы, незрячи,
Как звери в гулкой темноте,
Шатаясь, бродят наудачу.
Я, словно сумрачный пастух,
К разливам грусти, к водопою
Гоню их грузною толпою,
И мрак вокруг глубок и глух.
В груди скупая скорбь. Когда,
Сменив тяжелое обличье,
Слова прольются, как вода,
Как в небесах порханье птичье?
Иль вдруг, разранивая гром,
Ломая молниями темный
Простор, когда ж падут дождем
Серебряным и неуемным?
…Явись, любовь! В молчащий лес
Ночей пролей мне звук и пламя.
Я жду. Я только жду чудес
Над задремавшими словами.
«День золотеет. Тишина легка…»
И вновь скользя неуследимо,
Легчайший замедляя лёт,
Распластывайся, никни мимо,
О, снеговой водоворот.
И после, тяжелея влажно,
На побурелые дома
Налипни таять…Мне не страшно.
Я даже радуюсь. Зима.
Не потому ли, что в недобрый,
В угрюмый день, все ж будут мне
Вот этих крыш крутые ребра
Мерцать в скрипучей белизне,
И где разметаны бульвары
И сухоруко, и серо,
Метель в котлах ночей заварит
Клокочущее серебро.
Не потому ль? А может, просто
Стиху просторному равны
И скованный морозом воздух,
И буйная лазурь весны.
Из цикла «Россия»
День золотеет. Тишина легка.
Блестят березы в воздухе прогретом.
Густым тяжелым налитые светом,
Колеблясь, наплывают облака.
И ласточки стремительно и криво
Роняют в высь тревожные извивы.И солнце – зреющий горячий плод,
Пылая, клонится над небосклоном.
И вот – земля во сне неутоленном
Вздыхающими травами встает…
И колос гнет по ветру непокорно
Янтарные твердеющие зерна.И скоро, выступая там и тут, -
Неловкое внимательное вече, -
Над нищей нивой видные далече,
Снопы ряды нестройные сомкнут.
И туча брызнет, мимо проходя,
В них россыпью внезапного дождя.И все земля исполнит, что должна.
И будут, глубью вспоенные туго,
И хлеб душист, и яблоко упруго,
И ягода прозрачна и крупна,
И в тесных ульях желтый и тяжелый
Накопят мед заботливые пчелы.И, проходя среди зыбучей ржи,
Недолгий гость, случайный соглядатай,
Встречая день просторный и крылатый,
Душе я говорю: – А ты, скажи,
В творящем подвиге с упорным пылом
Позволишь ли могучим звонким силам
В себе восстать травою, как цветы,
Горячими раскрыться лепестками,
И жарких зерен брызжущее пламя
Осенним днем куда уронишь ты?Но смутною мерцая глубиною,
Моя душа не говорит со мною.
И гаснет день. И рдяная гряда
Прозрачных облак стынет над закатом.
И блеском острым и холодноватым
Вечерняя заискрилась звезда.
Глядишь, другая около. И скоро
От ровного серебряного хора
Колеблется все небо. И тону
Я в бездне ясной, разлитой без края.
И вздрагиваю вдруг, благословляя
И мрак полей, и высь, и тишину,
И листьев шевелящиеся кущи,
И тонкий месяц, медленно плывущий.И вот стою, на миг всему родной -
Земле, творящей горячо и щедро,
Движенью звезд, благоуханью ветра.
И в напряженной тишине ночной,
Строй мира отражая неизменный,
Стучится сердце – колокол вселенной.
Декабрь
Прочесть не смею этих тонких букв,
Что тихое твое слагают имя.
Земля молчит в серебряном гробу,
В метельном трепетном пушистом дыме.
Суровая и снежная зима.
И ты под зыбкой вьюжной ворожбою,
Под гулким ветром не поймешь сама,
Какие звезды встали над тобою,
Какие нависают облака,
Как чьих-то снов всклубившиеся космы,
И в высоте чья легкая рука
Поднимет солнца кубок светоносный.
И я стою и вглядываюсь в тьму,
Ночей дремучих вижу колыханье
И сам не понимаю, почему
В душе моей восторг и ожиданье.
И будто тяжкий шум вершин в лесу,
И словно волны звона золотые
Вдруг закипят, когда произнесу
В смущеньи имя трудное – Россия.
«Еще горячей и золотопенней…»
Все спит. Все отдано. Все сжато.
Лед слишком скользок под ногой.
И снег, разлегшийся горбато,
Блестит, сухой и голубой.
И ветру вскинуть напоследок
Снежинки легче и пестрей
Меж круто вывернутых веток,
Меж неподвижных фонарей.
И кто я? Занятой прохожий.
Но почему, откуда он,
Непобедимый, непохожий,
Заполонивший душу звон?
И по серебряным бульварам
Перебегая, на ходу
Так ясно вижу я недаром
Внезапно вставшую звезду.
И в небе зыбком, белорунном
Сейчас, вот-вот услышу сам -
Вдруг бурно встрепенуться струнам
И взволноваться голосам.
Да. Да! Все изменись. Все снова…
Бей, сердца тяжкое крыло.
Огнем и музыкою слово
В дрожащий разум протекло.
И под невыносимой вестью,
Лохматясь, отступает тьма…
Легли огромные созвездья
На молчаливые дома.
И измененной, непохожей
Землей бреду, смущен и тих,
Случайный занятой прохожий
Меж узких улиц городских.
Ленинград
Еще горячей и золотопенней
День льется брагой в жадные глаза,
Но я неуловимой переменой
Уже насквозь захвачен. И нельзя
Не видеть эти легкие приметы:
Небес кристальных усмиренный склон,
Случайный лист, что между пышных веток
Ржавеющим багрянцем озарен
И пахнущие холодком закаты…
Привет тебе, осенняя пора.
Знать, скоро вдосталь будем мы богаты
От зимнего крутого серебра.
О, ровное и звучное дыханье
Земных времен. Ну, что ж, не в первый раз
На пашнях дум внимательною данью
Пытливый стих мой вызреет для вас.
И в этот день, что так иссиня-светел
Над разогретою землей плывет,
Я знанием взволнован. Я заметил
Опять земли неслышный поворот.
«И ночь не та. И путь не тот…»
Как парус, натянут покой.
Послушай, что может быть проще?
Вот мост разогнулся крутой,
Вот мачт тонкоствольная роща.
Ведь это мы видим всегда,
Ведь это на ощупь узнаем, -
Здесь дышит в каналах вода,
А здесь разбегаться трамваям.
Но солнца горячая медь -
То колоколом, то трубою, -
Сегодня в тревоге звенеть
Ты будешь над ржавой Невою,
Чтоб, медленно вниз уходя
За черную молнию шпица,
В багряные брызги дождя
По набережным разбиться.
И будут баркасы качать
К бортам приливающий вечер,
И ветер крепчать сгоряча
Волнам белогорбым навстречу.
Прохожий, опомнись, взгляни,
Под тухнущими небесами
Дворцы – уплывают они,
Пошатываясь корпусами.
Ты руку кладешь на гранит,
Но вечер, как занавес, задран.
И хлынувшим мраком размыт
Весь город – сплошная эскадра.
И ты не спасешься, о нет,
Еще исступленней и зорче
Он правит на диком коне -
Чугунный помешанный кормчий.
Но это же сам ты бока
Сжимаешь коню – и стальная
Твоя протянулась рука,
Столетья, как звезды, сшибая.
И он или ты – все равно,
Но рушится полночь от скача,
И море кругом взметено
Копытом тугим и горчим.
Так рвись. Ведь отвеется тьма.
И снова спокойней и строже
Рассвет распределит дома
И площади накрепко сложит.
И ты, занятой пешеход,
Все ж помни в тоске бесполезной
Хоть ветра упругий полет,
Хоть дребезг уздечки железной
Белые ночи
И ночь не та. И путь не тот.
И час совсем другой.
Луна пронзила небосвод
Серебряной дугой.
О, этот дом мне незнаком,
И тесен улиц скрест.
Но я войду в угрюмый дом,
В распахнутый подъезд.
Направят люстры ровный свет
В янтаревый паркет.
И в рюмки впаяно темно
Багряное вино.
И вот, подскакивая, он
В клавиатуру бьет.
Неровно брызжущий трезвон,
Хромающий фокстрот.
И пролетят вперед, назад,
Прерывисто дыша,
И напряженно угловат
Вибрирующий шаг.
И ночь не та. И все равно.
И я совсем другой.
Под звуки, брошенные вскачь,
Под струнный перебой
Мертвей, душа моя, не плачь,
Не смейся над собой.
Но, ослепленная, умри,
Когда в седую тишь
Ударит колокол зари
Среди квадратных крыш.
Крым
Они, как дым, как плащ голубоватый.
Зыбка их ткань.
Плывут дома над водами. Так надо.
Такая рань.
Откуда он, распластанный в просторе
Прохладный свет?
Я утонул. Мне в этом тусклом море
Спасенья нет.
Здесь даже ты не сохраняешь веса,
Гранит. И весь
Из памяти, из тишины белесой
Ты сваян здесь.
И – дар земли приветственный и краткий,
Здесь даже вы,
Под блеклым сном прилегшие на грядки
Цветы – мертвы.
И чем дышать? И как теперь бороться,
Когда вокруг
Вся жизнь на дне просторного колодца
Лишь – тень, лишь – звук,
Бескрылое пустое колыханье
Немых ветров.
Нет, к этому слепому умиранью
Я не готов.
Нет, знаю я, тоска рукой горячей
Ведет меня,
Как поводырь, уверенный и зрячий
На берег дня.
Ода
Округлая, душиста и тепла
Из золотисто-синего стекла
Гладь воздуха. И облака полны
Светящейся и спящей тишины.
И солнцем равномерно залиты
Гор серовато-ржавые хребты
И под отвесно-гладкою скалой
Ряд плоских крыш, задернутых листвой.Сойди дорогой каменистой вниз.
Свой темный стан сгибает кипарис.
Вокруг сухим плетнем обведена
Кудрявых лоз ленивая стена.
И в жестких листьях, круг и твердоват,
Прохладной кистью виснет виноград.Но это все без жалости забудь.
Лег круто спуск. Протоптан к морю путь.
Вот, в берегов обветренных края
Его густая плещет чешуя,
И от лучей мерцают веера
Искристого, тугого серебра,
Да волны набухают, волоча
По камню складки пенного плаща.О, гулкое просторов торжество.
В своей крови ты сбереги его,
Чтоб в зимний вечер пламенным шатром
Вдруг этот день проплыл в уме твоем,
И, проведя рукою по глазам,
Растерянный, ты б не поверил сам
Разливам волн под сводами лучей
И – улыбнулся б памяти своей.
Горбатый и черный орел на штандарте,
Резные границы на выцветшей карте
В чернильных разливах лиловых море.
Железом бряцающий слог манифеста,
И стройный парад у крутого подъезда
Закованных в камень дворцовых дверей.Не эту Россию в груди проношу я,
Но память о ней наплывает, бушуя,
Метелью взвивается в вихре крутом.
Она, словно тень, залегла за плечами,
Оглянешься – вот она спит за годами,
Как за полосатым шлагбаумным столбом.И там за недавнею треснувшей бездной
Весь бред этот хмурый, заштатный, уездный
Из дерева вытесанных городков,
Разлегшихся в тяжком трактирном угаре
Под кляузной одурью канцелярий,
Под крики торговок у драных лотков.Где поп, расстегнувши зеленую рясу,
Пьет чай, приходя от обедни. Где плясы
Гармоник размывчивы и горячи,
Где круглая церковь белеет убого,
И тусклы кирпичные стены острога,
И вяло свисают шары с каланчи.Дома кособокие в хриплых крылечках.
Опущены удочки в тихую речку.
Мычанье коровы, бредущей домой.
Дорога пылится, и рыхлятся пашни,
И ветер дохнет бесприютной, всегдашней,
Пропахшей полями российской тоской.От этой тоски никуда не укрыться -
Ни в сыростью выеденной столице,
Ни в плавленом звоне московских церквей.
Тоска, от которой лишь тройка да сани,
Да клекот гитар, да вино, да цыгане,
И дикие искры из смутных очей.Но все же, бобрами закутавши плечи,
Куда ему деться? Он едет далече,
Покоя – о, даже и этого нет.
Он слезет за речкой у зимнего леса,
Отмерен барьер. И под пулю Дантеса
Он станет, живой, беспокойный поэт.А где-то в Москве, повернув от Арбата,
Как птица, худой, пожелтелый, горбатый,
Вернется домой. – Что-то холодно мне,
Печь вытопи. – И, колотясь от тревоги,
Смотреть будет Гоголь, как плавятся строки,
И весело вьется бумага в огне.И в белую ночь настороженный Невский
Охрипший, простуженный Достоевский
Обходит. Над шпицем белесо-легка
Мгла сизые саваны тускло простерла.
И зябко, и сладко ложится у горла
Припадка удушливая рука.Да, все мы прошли эти гиблые были.
Мы эту Россию войною дробили
Под хмурые марши шрапнелей и труб.
Тот бред, как Распутин, смеялся из мрака.
Но выстрел… – В чем дело? – Убита собака. -
И в прорубь забит человеческий труп.И рваная вот на плечах гимнастерка.
И дуло винтовки прохладно и зорко,
И степи, оскалясь, окоп перервет.
И каждая площадь – ненастье и лагерь.
И ночью – пожаров горячие флаги.
Стучит у собора сухой пулемет.Тиф бродит волною, звенящею в теле.
Как холодно в старой защитной шинели.
Ружье за плечами и пальцы в крови.
Но злобой клянемся и голодом нашим,
Мы смертью недаром тебя перепашем, -
Россия, из сердца родись и живи.Поэту недаром ночами не спится.
Он видит тебя. И огромная птица,
Пернатое слово воркует в груди.
Оно над тобою в тревоге упругой
Клокочет крылами. И песни порукой,
Что зори с тобою и свет впереди.
II
Надпись на книге«Как мягок этот сумрак кроткий…»
Здесь каждый звук тебе знаком,
И рифмы, стянутые тесно
Своим двуострым языком
Рисуют край давно известный.Внезапно выдохнутый слог,
В тревоге найденный эпитет,
Он, словно лист, слетел и лег.
Кто в нем былую жизнь увидит?Пусть увядает…Разве нам
Пристала робкая оглядка,
Когда стремительно и сладко
Ветвится мир по сторонам.И, выпрямляясь от любви,
Мы воздухом горячим дышим.
Нет, строк далеких не зови,
Мы песни новые напишем.И отразятся в них точней,
Как в тонко-резаной гравюре,
Судьбы играющие бури
И строй прогретых счастьем дней.
«Ты все такая ж. На покатом…»
Как мягок этот сумрак кроткий
В чуть розоватом полусне.
Щиты круглеют на решетке,
Деревья внемлют тишине.И урны призрачное тело
Под теплый лепет ветерка
Так выпукло отяготело,
Сжав удлиненные бока.Постой. Помедли осторожно.
Вот плавно выгнутый подъем.
Его едва почуять можно
При шаге бережном твоем.Но разве есть минута слаще,
Когда сейчас, всей грудью, вдруг,
Ты мир вдыхаешь – настоящий
И собранный в единый звук.И, вздрогнув от внезапной боли,
Ты шепчешь: – Это наяву,
На Марсовом знакомо поле
Я вот – иду, дышу, живу.
Чудо! не сякнет вода…Пушкин
Земля
Ты все такая ж. На покатом,
На сером камне так жива.
Наклонена над локтем сжатым
Задумчивая голова.
Вся – слух глубокий, вся – вниманье,
О нет, забвенья не буди.
Пусть дышит бронза тонкой тканью
На чуть приподнятой груди.
Все так же веет день на тело,
На плечи смуглые твои,
Лишь медь кувшина пожелтела
Под быстрым натиском струи.
И – упадающие низко,
Играющий рождая звук,
Кропят целительные брызги
Траву, прильнувшую вокруг.
Мой сон, Поэзия, не ты ли
Здесь клонишь ворожащий лик?
И вот года не замутили
Неусыхающий родник.
И верю, живы мы, покуда
И тороплива и звонка
Скользит вода и длится чудо
В разбитой бронзе черепка.
«Туманом скользким и плывучим…»
Она изрезана тенями
И красновата и влажна.
Пред ней литое нежит пламя
Зеленобокая волна.
Ее сыреющие склоны,
Легко опущенные вниз,
Укрыли темные лимоны,
Пронзил недвижный кипарис.
Нет, ей рожденье не обуза.
Здесь, словно стих, свободно, вдруг,
Вспушится рощей кукуруза,
Взойдёт лепечущий бамбук.
Не напряжение, а случай,
Удача творчества – и вот
Распластан пальмы лист летучий,
Ручей мерцает и поёт.
И полон странного покоя,
Я вспоминаю, чуть дыша, -
Лишь ты мне виделась такою,
Искусства щедрая душа.
ЛЕНИН
Туманом скользким и плывучим
Обтянуты, как янтари,
Гнездятся по гранитным кручам
Домов – и блекнут фонари.
Мне даже площадь незнакома.
Она пустынна, словно дно
Расплёснутого водоема.
Лишь где-то вспыхнуло окно
И лампочка блестит в квартире,
Как память о далеком мире,
Откуда я ушел давно.
Весна в полях стелилась влажным паром,
Цедился дождь, царапая стекло.
И облаков знаменами недаром
Пригнувшееся небо замело.И липы пролетали, салютую,
Вдоль мокрых рельс. И круглую звезду
Жег семафор навстречу. И густую
Бросали искры россыпь на ходу.Вагон дрожал. В вагоне пахло краской.
Скрипели деревянные скамьи.
И купол ночи ветреный и вязкий
Над ним покачивался в забытьи.А станции отпрядывали. Что им?
В них суетня и окрики солдат,
В них оторопь погрузки перед боем.
Они войной, как факелы, чадят.Кто им расскажет: около рассвета,
Вобрав перрон окошками на миг,
Здесь не вагон – гремучая комета
Перерезала время напрямик.Но этот путь – еще он только начат,
Лишь оторвался камень от руки,
Еще совсем обыденно судачат
Ему навстречу стрелок огоньки.И тормоза полязгивают крепко,
И плоский луч внутри переберет
То на столе промятый профиль кепки,
То на пальто суконный отворот.И человек, устав от разговора,
Передохнуть ложится до утра
И морщит лоб. – Да, мы приедем скоро. -
И дождь в окно царапает: – Пора.
Листами зеленой стали
Обшитый, ты полз в бою,
И пули, скользнув, примяли
У башни щит на краю.Войной в раскаленном чреве
Под спазмы взрывов зачат,
Ты здесь прогибаешь в гневе
Трескучих торцов накат.Зачем же в сквозных заплатах
Бойниц, суров и тяжел,
От этих полей проклятых
Ты в город, ворча, пришел?Какую, бредя полями,
Себе выбирал ты цель?
Исчерченная огнями
Двугорбая цитадель.Ты знал ли – шумя, окружит
Прорезы твоих бойниц
Тревога знамен и ружей,
Горячая лава лиц.Пока, летя словно эхо,
Рядами не шевельнет
Скользящий шепот: – Приехал.
– Который? – Смотрите! – Вот!И торопливой походкой
Пересекая перрон,
Широкий, крепкий, короткий,
К тебе протиснется он.Ведь здесь невозможно позже,
Ведь надо сейчас, скорей,
С размаху схватить за вожжи
Безумную скачку дней.И хлещут слова, как плети,
И – вытянута рука…
Ты этого ждал? За этим
Катился издалека?И вот, с приглушенной дрожью
Моторов, прилег мертво,
Чтоб кованым быть подножьем
Для первой речи его.
Сергей Спасский. 20-е годы
Ежедневные рифмы
Сергей Спасский (1898-1956)
***
Все сызнова я повторяю: люблю,
Не наспех обученный маем,
Но лодка покорная внемлет рулю.
Так верностью я направляем.
И это не юные заросли роз,
Не щебет дурманных Хафизов,
Но недоуменье, но стыд, но вопрос,
И страх подступивший, и вызов.
И разве душе не по мерке отказ
И жест отрешенья? Но что с ней?
Бредет, славословит она напоказ
Всю щедрость любви этой поздней.
И не из сборника:
Бегучие звякают счёты.
Поскрипывает карандаш.
О, мареву этой работы
По капле всю душу отдашь.
И бьёт "Ундервуд" за стеною.
Так вот и трудна, и груба
Внезапная перед тобою
Спокойно раскрылась судьба.
Её ли ты видел?
Она ли,
Как парус на синем пруду,
В налитые золотом дали
Клонила крыло на ходу?
О, сердце, в тревоге не дёргай.
Ну, что же, пускай посидит
За лаковой ровной конторкой
Строитель, поэт, следопыт.
В нахмуренном мире, и здесь он
За пасмурным мороком дел
Безумным предчувствием песен
До самых висков холодел.
И губы ссыхались в тревоге,
Как будто на буйном ветру,
И рвались неровные строки,
Едва прикасаясь к перу.
Поэзия, так за решёткой,
На каторге и на войне
Тяжёлой и звучной походкой
Ты всё-таки сходишь ко мне.
И блещет такая свобода,
Такая звенит синева,
От крови летучего хода
Встают, задыхаясь, слова.
Упорствуй же, мерный и долгий
Часы оплетающий труд.
Бегучими счётами щёлкай,
В сухой колотись "Ундервуд".
О, как я настойчиво строю
И в тусклом обличьи раба.
И дышит горячей зарёю
Над крепнущим сердцем судьба.
(1923)
***
Туманом скользким и плывучим
Обтянуты как янтари,
Гнездятся по гранитным кручам
Домов - и блекнут фонари.
Мне даже площадь незнакома.
Она пустынна, словно дно
Расплёснутого водоёма.
Лишь где-то вспыхнуло окно
И лампочка блестит в квартире,
Как память о далёком мире,
- Откуда я ушёл давно.
(1926)
***
День обнесли тёмных сосен перила.
Жёлтые сваи. Слоистая хвоя.
Озеро верхнюю синь повторило.
Речка дрожит нарезною уздечкой.
Гор задремали нагретые крупы
В упряжи струй.
Как зажжённые свечкой
Воздух мне сушит ленивые губы
Не для раскаянья, не по заслугам,
Здесь для поступков иные мерила.
Брёвна на волнах. Фаянсовым кругом
Небо. И озеро синь повторило.
Убраны склоны прилежной травою.
Жизнь моя рядом - доверчивой тенью.
Горы висят вопреки тяготенью.
Неба здесь больше обычного вдвое.
***
Я подымался по ступеням.
Я забежал в случайный дом.
Мне верилось - мы всё изменим
Терпеньем, мужеством, трудом.
И в расчленённой на пролёты
Многоэтажной тишине
Я тихо окликал кого-то,
Чей адрес неизвестен мне.
Подругу, молодость, иль брата,
Иль тех, кто умер, иль того,
Кто будет жить ещё когда-то…
Я брёл вдоль шахты винтовой
Полуослепший выше, выше
Такой тревогою томим,
Что если б друг навстречу вышел,
Я бы заплакал перед ним.
Сквозь хрусты воздуха, сквозь шорох
Теней, над клетками перил,
Я б выкрикнул слова, которых
Я никогда не говорил.
Откуда это? Что такое?
Мой день был трезв, угрюм, упрям.
Зачем же шарю здесь рукою
Во тьме по замкнутым дверям?
Подборка стихов С.Спасского:
http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Poezia&go=page&pid=11502
Сергей Дмитриевич Спасский
— советский поэт, прозаик и драматург, переводчик, литературный критик. Родился в семье публициста и общественного деятеля Дмитрия Иосифовича Спасского-Медынского. В 1902 году семья Спасских переселилась на Кавказ, позже переехала в Тифлис. В 1915 году Сергей окончил тифлисскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, который оставил в 1918 году, не кончив курса. В том же году призван в Красную Армию, военную службу проходил в Самаре, был лектором в политотделе губвоенкомата; демобилизовался в 1921 году. В 1924 году поселился в Ленинграде, состоял секретарём Центрального Художественного совета при академических театрах. С 1934 года — член СП СССР. В осаждённом Ленинграде выступал в воинских частях, в журналах «Звезда» и «Ленинград», работал на радио; был в народном ополчении, пережил блокадную зиму. В 1942 году эвакуировался в Пермь, писал тексты для «Окон ТАСС»; вернулся в Ленинград в 1944. С 1945 по 1949 год работал старшим редактором в Гослитиздате. 8 января 1951 года был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе и антисоветской агитации и приговорен к 10 годам лагерей. Срок отбывал в Абезьском лагере. В 1954 г. освобождён, вернулся в Ленинград.
(Википедия)
Поэты пишут не для себя лично. Они пишут для читателей, для живых людей, соседствующих с ними во времени. Всякое искусство, а стихи в особенности, - это беседа с современниками. Но чем правдивее и естественнее беседует поэт с читателем-современником, чем полнее он отражает и выражает тревоги и радости своего времени - тем ближе он будет и будущему поколению. И получается, что стихи - это не только разговор с сегодняшним другом, но и послание другу завтрашнему, письмо в будущее.
Уже полтора десятилетия нет с нами поэта Сергея Спасского. За эти годы в советской поэзии произошло немало перемен. Появилось много новых поэтов; окрепли голоса тех поэтов, которые пятнадцать лет тому назад были совсем еще молодыми; выросли новые кадры читателей и любителей поэзии; повысились требования к поэзии. Но подлинное искусство всегда остается искусством, ему не страшны смены литературных мод и веяний, ему не опасны смены читательских поколений. Лучшие стихи и поэмы Спасского не устарели, они прочно вошли в неделимый фонд советской поэзии. Сегодняшний читатель прочтет их с таким же душевным волнением, с каким читали их современники поэта.
В стихотворении «Материал», которое Спасский написал в тридцатые годы, поэт рассказывает нам о том, как с возрастом стал он «упорным историком», как по частицам, по обрывкам сбивчивых фраз очевидцев он восстанавливает образы минувшего. Это нелегкий труд, но –
…вдруг сквозь признания бедные,
Записок пласты вороша,
Дохнет революций победная,
Не знавшая страха душа.
И сразу все поле прополото,
И тотчас промыто стекло,
И в руки крупинками золото
С единственным блеском легло.
Читая эту книгу, ценитель стихов ощутит в ней дыхание революционных и первых послереволюционных лет; найдет он в ней и золотые крупинки подлинной поэзии, которые западут ему в душу и сделают его жизнь богаче и полнее.
Первая книга Сергея Спасского вышла в 1917 году, когда поэту было восемнадцать лет. Всего же его перу принадлежат семнадцать книг, в число которых входят не только стихотворные, но и прозаические. Среди них - воспоминания о Маяковском, память о дружбе с которым автор пронес через всю свою жизнь, и два романа - «Перед порогом» и «1916 год». В эту книгу - «Земное время» - вошли лучшие стихотворения Спасского. Несмотря на то что прошло немало лет с той поры, когда они были опубликованы впервые, все они звучат своевременно и в наши дни. И стихи времен гражданской войны, и стихи первых наших пятилеток, и стихотворения блокадных и послевоенных дней - все они написаны с глубокой искренностью, с взволнованной заинтересованностью в происходящем. Вот эта-то личная, сердечная заинтересованность поэта в том, что окружало его, и дает его произведениям тот запас прочности, который позволяет им существовать во времени.
К ясности и простоте стиха поэт пришел не сразу. Путь его в советской литературе был труден и сложен, он испытал на себе немало влияний, прежде чем выработать свою манеру поэтического письма. Но всем его стихам - и ранним, и поздним - свойственно одно: это стихи не стороннего наблюдателя, это стихи участника событий. И недаром в стихотворении «Вступление» есть у него такие строки:
Поэта давно нет с нами. И в то же время он существует, - существует в поэзии, живет среди живых. Сквозь строки, сквозь образную ткань стиха, - мы видим его живое лицо. Мы видим человека глубоко чувствующего, умно думающего и умеющего тонко и поэтически точно поведать нам о своих думах и чувствах. Многими своими стихами он напоминает нам о прошлом - и это не только его прошлое, но и наше. Не в этом ли заключается одна из задач и радостей поэзии, что поэт дарит нам былое? Без него мы могли бы многое забыть, утерять навсегда. Облекая наши воспоминания, порой неясные и расплывчатые, в ясную поэтическую форму, он приобщает наше минувшее к настоящему и тем самым помогает нам заглянуть в будущее. Ибо будущее прорастает не только из того, что есть в сегодняшних быстротекущих днях, но и из прошлых наших дней.
«Слова. Они еще не те…»
Слова. Они еще не те.
Неповоротливы, незрячи,
Как звери в гулкой темноте,
Шатаясь, бродят наудачу.
Я, словно сумрачный пастух,
К разливам грусти, к водопою
Гоню их грузною толпою,
И мрак вокруг глубок и глух.
В груди скупая скорбь. Когда,