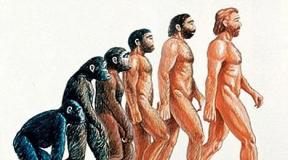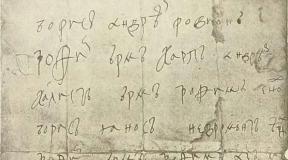Осип эмильевич мандельштам, краткая биография. Мандельштам Осип Эмильевич – биография и произведения Возвращение в столицу
М.Горка
Введение
Творчество О.Э.Мандельштама представляет собой редкий пример единства поэзии и судьбы. Жизнь в поэзии – вот то, чему подчинялась биография, обретавшая подлинную значимость лишь в свете эстетической вечности. Более того, сама судьба Мандельштама становится символом времени и обретает обобщающий смысл. Находившийся под постоянным подозрением «отщепенец в народной семье», живший в страхе ареста и в конце концов раздавленный безжалостной машиной подавления свободы, О.Мандельштам действительно заслужил право «говорить за всех». Его творчество интересно как свидетельство очевидца событий, до конца разделившего боль своей страны и отстоявшего право на свободу творчества перед лицом неминуемой гибели.
О.Мандельштам - поэт, отразивший в своем наследии подлинные искания XX века. В его лирике модернистская тенденция сочетается с классичностью стиля, тем, мотивов. Сложнейший поэт, глубокий мыслитель, нетипичный прозаик, Мандельштам никогда не перестанет быть актуальным.
Несмотря на обилие работ о творчестве Мандельштама, появившихся в течение последних полутора десятков лет, он до сих пор остается достаточно загадочной фигурой. Понимание его творчества требует определенного ключа, и многие стихотворения все еще не «расшифрованы». Особенно актуальной для изучения является концепция творчества Мандельштама, многогранная и по-настоящему уникальная. Ее исследование может пролить свет на многие трудные для интерпретации смысловые отрывки в произведениях Мандельштама.
Концепция творчества Мандельштама в ее глубине и необычности - одна из самых ярких в русской литературе XX века. Она представляет особенный интерес для исследования благодаря тому, что занимает центральное место в миропонимании и художественной системе Мандельштама.
Творческое наследие О.Мандельштама, во всей его глубине и многоаспектности, отнюдь не представляется полностью и всесторонне изученным. На данный момент в манделыитамоведении скорее возникает больше вопросов, чем дается ответов на них. До сих пор много неясностей, связанных с недостатком источников: они касаются фактов биографии поэта (особенно пребывания в лагере), установления окончательного варианта множества стихотворений. В настоящее время архив О.Мандельштама находится на хранении в Принстонском университете США, что создает дополнительные трудности для изучения его творчества.
Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама
Осип Эмильевич Мандельштам – поэт, прозаик, критик, переводчик, – творческий вклад которого в развитие русской литературы требует внимательного историко-литературного анализа.
Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье коммерсанта, так и не сумевшего создать состояние. Но родным городом стал для Поэта Петербург: здесь он вырос, окончил одно из лучших в тогдашней России Тенишевское училище. Здесь он пережил революцию 1905 года. Она воспринималась как "слава века" и дело доблести. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом – не просто “русскоязычным”, а именно русским. И это решение не такое само собой разумеющееся: начало века в России - время бурного развития еврейской литературы, как на иврите и на идише, так, отчасти, и на русском языке. Выбор сделан Мандельштамом в пользу русской поэзии и “христианской культуры”.
О. Э. Мандельштам.
Воронеж. 1935 г.
К поэзии его толкнули уроки символиста В.В.Гипплуса, который читал в училище русскую словесность. Затем Мандельштам учился на романо-германском отделении филологического факультета университета. Вскоре после этого он покинул город на Неве. Мандельштам ещё будет возвращаться сюда, "в город знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухших желез". Встречи со "столицей северной", "Петрополем прозрачным", где "каналов узкие пеналы подо льдом ещё черней", будут частыми в стихах, порождённых и чувством причастности своей судьбы к судьбе родного города, и приклонением перед его красотой.
Все творчество Мандельштама можно разбить на шесть периодов:
1908 – 1911 – это «годы ученья» за границей и потом в Петербурге, стихи в традициях символизма;
1912 – 1915 – Петербург, акмеизм, «вещественные» стихи, работа над «Камнем»;
1916 – 1920 – революция и гражданская война, скитания, перерастание акмеизма, выработка индивидуальной манеры;
1921 – 1925 – промежуточный период, постепенный отход от стихотворства;
1926 – 1929 – мертвая стихотворческая пауза, переводы;
1930 – 1934 – поездка в Армению, возвращение к поэзии, «московские стихи»;
1935 – 1937 – последние, «воронежские» стихи.
Первый, наиболее ранний, этап творческой эволюции Мандельштама связан с его «учебой» у символистов, с участием в акмеистическом движении. На этом этапе Мандельштам выступает в рядах писателей-акмеистов. Но как же при этом очевидна его особость в их среде! Не искавший путей к революционным кругам поэт пришел к среде, во многом для него чужой. Вероятно, он был единственным акмеистом, который так отчетливо ощущал отсутствие контактов с «миром державным». Впоследствии, в 1931 году, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» Мандельштам поведал, что в годы юности он насильственно принуждал себя к «ассимиляции» в чужеродном литературном кругу, слитом с миром, который не дал Мандельштаму реальных духовных ценностей:
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью.
В раннем стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок…» прямо сказано об отчужденности, разобществленности, гнетущей многих людей в «равнодушной отчизне», - царской России:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!
Это осознание социального одиночества порождало у Мандельштама глубоко индивидуалистические настроения, приводило его к поискам «тихой свободы» в индивидуалистическом бытии, к иллюзорной концепции самоотграничения человека от общества:
Недоволен стою и тих
Я – создатель миров моих…
(«Истончается тонкий тлен…»)
Мандельштам – искренний лирик и искусный мастер – находит здесь чрезвычайно точные слова, определяющие его состояние: да, он и недоволен, но и тих, смиренен и смирен, его воображение рисует ему некий иллюзорный, сфантазированный мир покоя и примирения. Но реальный мир бередит его душу, ранит сердце, тревожит ум и чувства. И отсюда в его стихах столь широко «разлившиеся» по их строкам мотивы недовольства действительностью и собой.
В этом «отрицании жизни», в этом «самоуничижении» и «самобичевании» есть у раннего Мандельштама нечто роднящее его с ранними символистами. С ранними символистами юного Осипа Мандельштама сближает и ощущение катастрофичности современного мира, выраженное в образах бездны, пропасти, обступающей его пустоты. Однако, в отличие от символистов, Мандельштам не придает этим образам никаких двусмысленных, многосмысленных, мистических значений. Он выражает мысль, чувство, настроение в «однозначащих» образах и сравнениях, в точных словах, приобретающих иной раз характер определений. Его поэтический мир – вещный, предметный, порою «кукольный». В этом нельзя не почувствовать влияния тех требований, которые в поисках «преодоления символизма» выдвинули предакмеистские и акмеистские теоретики и поэты, – требований «прекрасной ясности» (М.Кузмин), предметности деталей, вещности образов (С.Городецкий).
В таких строках, как:
Немного красного вина,
Немного солнечного мая, -
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна, -
(«Невыразимая печаль…»)
Мандельштам необычайно близок к М.Кузмину, к красочности и конкретности деталей в его стихах. В 1910 году становится бесспорным "кризис символизма" – исчерпанность политической системы. В 1911 году молодые поэты из выучеников символизма, желая искать новые пути, образуют "Цех поэтов" – организацию под председательством Н. Гумилёва и С. Городецкого. В 1912 году внутри Цеха поэтов образуется ядро из шести человек, назвавших себя акмеистами. Это были Н. Гумилёв, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич и В. Нарбут. Более несхожих поэтов трудно было вообразить. Группа просуществовала два года и с началом мировой войны распалась; но Ахматова и Мандельштам продолжали ощущать себя "акмеистами" до конца дней, и у историков литературы слово "акмеизм" всё чаще стало означать совокупность обоих творческих особенностей именно этих двух поэтов.
Акмеизм для Мандельштама – "сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Любите существование вещи больше самой вещи и своё бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма". И второе – создание вечного искусства.
Осипу Эмильевичу было очень важно почувствовать себя в кругу единомышленников, хотя бы и очень узком. Он мелькал в Цехе поэтов на дискуссиях и выставках, в богемном подвале "Бродячая собака". Вскинутый хохол, торжественность, ребячливость, задор, бедность и постоянное житьё взаймы – таким он запомнился современникам. В 1913 году он печатает книжку стихов, в 1916 году она переиздаётся, расширенная вдвое. Из ранних стихов книгу вошла лишь малая часть – не о "вечности, а о милом и ничтожном". Книга вышла под заглавием "Камень". Архитектурные стихи – сердцевина мандельштамовского "Камня". Именно там акмеический идеал высказан как формула:
Но чем внимательней, твердыня Notre-Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.
Последние стихотворения "Камня" писались уже в начале мировой войны. Как и все, Мандельштам встретил войну восторженно, как все, разочаровался через год.
Революцию он принял безоговорочно, связывая с ней представления о начале новой эры – эры утверждения социальной справедливости, подлинного обновления жизни.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий
Скрипучий поворот руля.
Земля плывёт. Мужайтесь, мужики,
Как плугом, океан деля.
Мы будем помнить в житейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
Зимой 1919 года открывается возможность поехать на менее голодный юг; он уезжает на полтора года. Первой поездке он посвятил потом очерки "Феодосия". По существу именно тогда решался для него вопрос: эмигрировать или не эмигрировать. Эмигрировать он не стал. А о тех, кто предпочёл эмиграцию, он писал в двусмысленном стихотворении "Где ночь бросает якоря…": "Куда летите вы? Зачем от древа жизни вы отпали? Вам чужд и страшен Вифлеем, И яслей вы не увидали…"
Весной 1922 года Мандельштам возвращается с юга и поселяется в Москве. С ним молодая жена, Надежда Яковлевна. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна были совершенно неразделимы. Она была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. Тяжёлая трагическая его судьба стала и её судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть. "Осип любил Надю невероятно и неправдоподобно", – говорила Анна Ахматова.
Осенью 1922 года в Берлине выходит маленькая книжка новых стихов "Тристии". (Мандельштам хотел назвать её "Новый камень".) В1923 году она переиздаётся в изменённом виде в Москве под заглавием "Вторая книга" (и с посвящением Наде Хазиной). Стихи "Тристий" резко непохожи на стихи "Камня". Это новая вторая поэтика Мандельштама.
В стихотворении "На розвальнях…" тема смерти вытеснила тему любви. В стихах о любимом голосе в телефоне ("Твоё чудесное произношение…") являются неожиданные строки: "пусть говорят: любовь крылата, – смерть окрылённее стократ". Тема смерти пришла к Мандельштаму тоже из собственного душевного опыта: в 1916 году умерла его мать. Просветляющий вывод лишь стихотворение "Сестры – тяжесть и нежность…": жизнь и смерть круговорот, роза рождается из земли и уходит в землю, а память о своём единичном существовании она оставляет в искусстве.
Но гораздо чаще и тревожнее пишет Мандельштам не о смерти человека, а о смерти государства. Эта поэтика была откликом на катастрофические события войны и революции. Три произведения подводят итог этому революционному периоду творчества Мандельштама – три и ещё одно. Прологом служит маленькое стихотворение "Век":
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Веку перебили спинной хребет, связь времён прервана, и это грозит гибелью не только старому веку, но и новорожденному.
Из современников Мандельштама, может быть, один только Андрей Платонов мог уже тогда столь же остро ощутить трагедию эпохи, когда котлован, что готовился под строительство величественного здания социализма, становился для многих работающих там могилой. Среди поэтов Мандельштам был едва ли не единственным, кто так рано смог рассмотреть опасность, угрожающую человеку, которого без остатка подчиняет себе время. "Мне на плечи кидается век-волкодав, Но чем же не волк я по крови своей…" Что же в эту эпоху происходит с человеком? Отделять свою судьбу от судьбы народа, страны, наконец, от судеб современников Осип Эмильевич не хотел. Он твердил об этом настойчиво и громко:
Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать! –
Ручаюсь вам, себе свернёте шею!
В жизни Мандельштам не был ни борцом, ни бойцом. Ему ведомы были обычные человеческие чувства, и среди них – чувство страха. Но, как подметил умный и ядовитый В. Ходасевич, в поэте уживалась "заячья трусость с мужеством почти героическим". Что касается стихов, то в них обнаруживается лишь то свойство натуры поэта, что названо последним. Поэт не был мужественным человеком в расхожем смысле слова, но упорно твердил:
Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрём, как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!
Однако тщетно искать в поэзии Мандельштама единообразное отношение к событиям 17-го года. Да и вообще, определённые политические мнения встречаются у поэтов редко: они воспринимают реальность слишком по-своему, особым чутьём. Мандельштам считал противоречивость непременным свойством лирики.
Между 1917 и 1925 годами мы можем расслышать в поэзии Мандельштама несколько противоречивых голосов: тут и роковые предчувствия, и мужественное приятие "скрипучего руля", и всё более щемящая тоска по ушедшему времени и золотому веку.
В первом стихотворении, навеянном февральскими событиями, Мандельштам прибегает к посредству исторического символа: коллективный портрет декабриста, соединяющий черты античного героя, немецкого романтика и русского барина, несомненно, дань бескровной революции:
Тому свидетельство языческий Сенат –
Сии дела не умирают.
Но уже проскальзывает беспокойство за будущее:
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.
Этому тревожному чувству было суждено вскоре оправдаться. Гибель эсера, комиссара Линде, убитого толпой взбунтовавшихся казаков, вдохновила Мандельштама на гневные стихи, где "октябрьскому времёнщику" Ленину, готовящему "ярмо насилия и злобы", противопоставляются образы чистых героев – Керенского (Уподобленного Христу!) и Линде, "свободного гражданина, которого вела Психия".
И если для других восторженный народ
Венки сбивает золотые –
Благославить тебя в далёкий ад сойдёт
Столпами лёгкими Россия.
Ахматова, в отличие от большинства поэтов, ни на минуту не соблазнилась опьянением свободы: за "весёлым, огненным мартом" (З. Гиппиус) она предчувствовала роковой исход похме лья. Обращаясь к современной Касандре, Мандельштам восклицает:
И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя… –
И, в свою очередь, становясь глашатаем бедствий, предрекает будущую трагическую судьбу "царскосельской весёлой грешнице":
Когда-нибудь в столице малой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.
Мандельштам отказывается от пассивного восприятия революции: он как бы даёт на неё согласие, но без иллюзий. Политическая тональность – впрочем у Мандельштама она всегда меняется. Ленин уже не "октябрьский времёнщик", а "народный вождь, который в слезах берёт на себя роковое бремя" власти. Ода служит продолжением плачу над Петербургом, она воспроизводит динамический образ идущего ко дну корабля, но и ему отвечает. По примеру пушкинского "Пира во время чумы" поэт строит своё стихотворение на контрасте немыслимого прославления:
Прославим, братья, сумерки свободы, –
Великий сумеречный год.
Прославим власти сумеречное бремя,
Её невыносимый гнёт.
Прославляется непрославимое. Встающее солнце невидимо: оно скрыто ласточками, связанными "в легионы боевые", "лес тенёт" обозначает упразднение свобод. Центральный образ "корабля времени" – двойственен, он идёт ко дну, в то время как земля продолжает плыть. Мандельштам принимает "огромный неуклюжий, скрипучий поворот руля" из "сострадания к государству", как он объяснит впоследствии, из солидарности с этой землёй, когда бы её спасение стоило бы "десяти небес".
Несмотря на эту двойственность и неясность, ода вносит новое измерение в русскую поэзию: активное отношение к миру независимо от политической установки.
Сведя этот расчёт со временем, замолкает: после "1 января" – за два года четыре стихотворения, а потом пятилетнее молчание. Он переходит на прозу: в 1925 году появляются воспоминания "Шум времени" и "Феодосия" (тоже сведение счётов со временем), в 1928 году – повесть "Египетская марка". Стиль этой прозы продолжает стиль стихов: такая же кратность, такая же предельная образная нагрузка каждого слова.
С 1924 года поэт живёт в Ленинграде, с 1928 года – в Москве. На жизнь приходится зарабатывать переводами: 19 книг за 6 лет, не считая редактур. Пытаясь спастись от этой обессиливающей работы, он уходит работать в газету "Московский комсомолец". Но оказывается ещё тяжелее.
С возвращением к стихам Мандельштам вернул себе чувство личной значимости. Зимой 1932-33 годов прошло несколько его авторских вечеров, "старая интеллигенция" принимала его с почётом; Пастернак говорил: "Я завидую вашей свободе". За десять лет Осип Эмильевич очень постарел и молодым слушателям казался "седобородым патриархом". С помощью Бухарина он получает пенсию и заключает договор на двухтомное собрание сочинений (которого так и не вышло).
Но это только подчёркивало его несовместимость с тоталитарным режимом в литературе. Редкая удача – получение квартиры – вызывает у него порыв к некрасовскому бунту, потому что квартиры дают только приспособленцам. Нервы его все в напряжении, в стихах сталкиваются "до смерти хочется жить" и "я не знаю, зачем я живу", он говорит: "теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть". Но он помнит: смерть художника есть "высший акт его творчества", об этом он писал когда-то в "Скрябине и христианстве". Толчком послужило стечение трёх обстоятельств 1933 года. Летом в Старом Крыму он видел моровой голод, последствие коллективизации, и это всколыхнуло эсеровское народолюбие.
Теперь, в ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал небольшое, но смелое стихотворение, с которого начался его мученический путь по ссылкам и лагерям.
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, –
Там припомнят кремлёвского горца
Его толстые пальцы, как червы, жирны,
А слова, как пудовые гири верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычит.
Как подковы куст за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, – то малина
И широкая грудь осетина.
Эту эпиграмму на Сталина читает он под великим секретом не менее, чем четырнадцати лицам. "Это самоубийство", – сказал ему Пастернак и был прав. Это был добровольный выбор смерти. Анна Ахматова на всю жизнь запомнила, как Мандельштам вскоре после этого сказал ей: "Я к смерти готов". В ночь с 13 на 14 мая Осип Эмильевич был арестован.
Друзья и близкие поэта поняли, что надеяться не на что. Осип Мандельштам говорил, что с момента ареста он всё время готовился к расстрелу: "Ведь это у нас случается и по меньшим поводам". Следователь прямо угрожал расстрелом не только ему, но и всем сообщникам. (Т.е. тем, кому Мандельштам прочёл стихотворение).
И вдруг произошло чудо.
Мандельштама не только не расстреляли, но даже не послали "на канал". Он отделался сравнительно лёгкой ссылкой в Чердынь, куда вместе с ним разрешили выехать его жене. А вскоре и эта ссылка была отменена. Мандельштамам было разрешено поселиться где угодно, кроме двенадцати крупнейших городов. Осип Эмильевич и Надежда Константиновна наугад назвали Воронеж.
Причиной "чуда" была фраза Сталина: "Изолировать, но сохранить".
Надежда Яковлевна считает, что тут возымели своё действие хлопоты Бухарина. Получив записку от Бухарина, Сталин позвонил Пастернаку. Сталин хотел получить от него квалифицированное заключение о реальной ценности поэта Осипа Мандельштама. Он хотел узнать, как котируется Мандельштам на поэтической бирже, как ценится он в своей профессиональной среде.
Мандельштам говорит жене: "Поэзию уважают только у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде…"
Уважение Сталина к поэтам проявлялось не только в том, что поэтов убивали. Он прекрасно понимал, что мнение о нём потомков во многом будет зависеть от того, что о нём пишут поэты.
Узнав, что Мандельштам считается крупным поэтом, он решил до поры до времени его не убивать. Он понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Убить поэта – пустяки. Сталин был умнее. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина.
Стихи, возвеличивающие Сталина, писали многие поэты. Но Сталину было нужно, чтобы его воспел именно Мандельштам.
Потому что Мандельштам был "чужой". Мнение "чужих" было для Сталина очень высоко. Будучи сам неудавшимся стихотворцем, в этой области Сталин особенно безотчётно готов был прислушаться к мнению авторитетов. Не зря он так настойчиво домогался у Пастернака: "Но ведь он же мастер? Мастер?" В ответе на этот вопрос для него было всё. Крупный поэт – это значило крупный мастер. А если мастер, значит, сможет возвеличить "на том же уровне мастерства", что и разоблачал.
Мандельштам понял намерения Сталина. Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попробовать спасти жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него "оду Сталину".
Вот как вспоминает об этом Надежда Яковлевна: "У окна в портнихиной комнате стоял квадратный стол, служивший для всего на свете. Осип, прежде всего, завладел столом и разложил стихи и бумагу… Для него это было необычайным поступком – ведь стихи он сочинял с голоса и в бумаге нуждался только в самом конце работы. Каждое утро он садился за стол и брал в руки карандаш: писатель как писатель¼ Но не проходило и получаса, как он вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства".
В результате явилась на свет долгожданная "Ода", завершающаяся такой торжественной концовкой:
И шестикратно я в сознаньи берегу
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь через тайгу
И ленинский октябрь – до выполненной клятвы.
¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали.
Есть имя славное для сильных губ чтеца –
Его мы слышим и мы его застали.
Казалось бы, расчёт Сталина полностью оправдался. Стихи были написаны. Теперь Мандельштама можно было убить. Но Сталин ошибся.
Мандельштам написал стихи, возвеличивающие Сталина. И тем не менее план Сталина потерпел полный крах. Чтобы написать такие стихи, не надо было быт Мандельштамом. Чтобы получить такие стихи, не стоило вести всю эту сложную игру.
Мандельштам не был мастером. Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов. Этого он не умел. Его стихи были сотканы из другого материала.
Невольная свидетельница рождения едва ли не всех его стихов (невольная, потому что у Мандельштама никогда не было ни то что "кабинета", но даже кухоньки, каморки, где он мог бы уединиться). Надежда Яковлевна свидетельствует:
"Стихи начинаются так: в углах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но ещё бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как Осип пытается избавиться от прв, стряхнуть её, уйти. Он мотал головой, словно её можно выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (Осип Мандельштам никогда не говорил, что стихи "написаны". Он сначала "сочинял", потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряжённом улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда трансформирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова."
Попытаться написать стихи, прославляющие Сталина, – это значило для Мандельштама прежде всего найти где-то на самом дне своей души хоть какую-то точку опоры для этого чувства.
В "Оде" не сплошь мёртвые, безликие строки. Попадаются и такие, где попытка прославления как будто бы даже удалась:
Он свесился с трибуны как с горы
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко¼
Строки эти кажутся живыми, потому что к их мёртвому острову сделана искусственная прививка живой плоти. Этот крошечный кусочек живой ткани – словосочетание "бугры голов". Надежда Яковлевна вспоминает, что, мучительно пытаясь сочинить "Оду", Мандельштам повторял: "Почему, когда я думаю о нём, передо мной всё головы, бугры голов? Что он делает с этими головами?" Изо всех сил стараясь убедить себя, что он делает с "ними" не то, что ему мерещилось, а нечто противоположное, т.е. доброе, Мандельштам невольно срывается на крик:
Могучие глаза решительно добры¼
"Ода" была не единственной попыткой вымученного, искусственного прославления "отца народов".
В 1937 году там же, в Воронеже, Мандельштам написал стихотворение "Если б меня наши враги взяли¼", завершающееся такой концовкой:
И промелькнёт пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой – Ленин,
Но на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь – Сталин.
Существует версия, согласно которой у Мандельштама был другой, противоположный по смыслу вариант последней, концовочной строчки:
Будет губить разум и жизнь – Сталин.
Можно не сомневаться, что именно этот вариант отражал истинное представление поэта о том, какую роль в жизни его родины играл тот, кого он уже однажды назвал "душегубцем".
Конечно, Сталин не без основания считал себя крупнейшим специалистом по вопросам "жизни и смерти". Он знал, что сломать можно любого человека, даже самого сильного. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных.
Но Сталин не знал, что сломать человека – это ещё не значит сломать поэта. Он не знал. Что поэта легче убить, чем заставить его воспевать то, что ему враждебно. После неудавшейся попытки Мандельштама сочинить оду Сталину прошёл месяц. И тут произошло нечто поразительное – на свет явилось стихотворение:
Среди народного шума и спеха
На вокзалах и площадях
Смотрит века могучая веха,
И бровей начинается взмах.
Я узнал, он узнал, ты узнала –
А теперь куда хочешь влеки:
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданье у мощной реки.
Далеко теперь та стоянка,
Тот с водою кипячёной бак –
На цепочке книжка-жестянка
И глаза застилавший мрак.
Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская сила борьба,
И ласкала меня и сверлила
От стены этих глаз журьба.
……………………………………
Не припомнить того, что было –
Губы жарки, слова черствы –
Занавеску белую било,
Нёся шум железной листвы.
……………………………………
И к нему – в его сердцевину –
Я без пропуска в Кремль вошёл,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжёл.
Как небо от земли отличаются они от тех казенно-прославляющих рифмованных строк, которые Мандельштам так трудно выдавливал из себя, завидуя Асееву, который в отличие от него был "мастер".
На этот раз стихи вышли совсем другие: обжигающие искренностью, несомненностью выраженного в них чувства.
Неужели Сталин в своих предположениях всё-таки был прав? Неужели он лучше, чем кто другой, знал меру прочности человеческой души и имел все основания не сомневаться в результатах своего эксперимента?
Решив до поры до времени не расстреливать Мандельштама, приказав его "изолировать, но сохранить", Сталин, конечно, знать не знал ни о каком искусственном замутнении каких-то неведомых ему источников гармонии.
Для того, чтобы попытка прославления Сталина ему удалась, у такого поэта, как Мандельштам, мог быть только один путь: это попытка должна была быть искренней. Точкой опоры для мало-мальски искренней попытки примирения с реальностью сталинского режима для Мандельштама могло быть одно только чувство: надежда.
Если бы это была только надежда на перемены в его личной судьбе, тут ещё не было бы самообмана. Но, по самой природе своей души озабоченный не только личной своей судьбой, поэт пытается выразить некие общественные надежды. И тут-то и начинается самообман, самоуговаривание.
Когда-то давным-давно (в статье 1913 года) Мандельштам написал, что поэт ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это, говорил он "… непростительно! Недопустимо для поэта! Единственное, что нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты." О. Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец "за гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей." Демонстративно славил он всё то, что у него никогда не было, лишь бы утвердить свою непричастность, свою до конца осознанную враждебность "веку-волкодаву".
Для Пастернака петровская дыба, призрак которой неожиданно воскрес в ХХ веке, была всего лишь нравственной преградой на пути духовного развития. Вопрос стоял так: имеет ли он моральное право через эту преграду переступить? Ведь и кровь и грязь – всё это окупится будущим богатством, "счастьем сотен тысяч"!
Душе Мандельштама плохо давались эти резоны, потому что в качестве объекта пыток и казней он неизменно пророчески видел себя.
Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Ещё страшнее было то, что несло гибель его душе, делу его жизни, поэзии. Может ли найтись для поэта перспектива более жуткая, чем "присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей". Мандельштам не хотел быть "как все". И тем не менее, как это не парадоксально, в какой-то момент он тоже захотел "туда со всеми сообща". Вопреки всегдашней трезвости и безыллюзности он даже ещё острее, чем Пастернак, готов был ощутить в своём сердце любовь и нежность к жизни, прежде ему чужой. Потому что из этой жизни его насильственно выкинули. Осознав, что его лишили права чувствовать себя "советским человеком", Мандельштам вдруг с ужасом ощутил это как потерю. Чувство это было реальное. И он ухватился за него, как утопающий за соломинку. Он ещё не понимал. Что с ним произошло. Он думал, что он – всё тот же несломленный. А "блестящий расчёт" тем временем уже давал в его душе первые всходы. И губы лепили уже совсем другие слова:
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат её твердеет добровольный…
Сталинская тюрьма (или ссылка) представляла особый случай. Здесь сам факт насильственного изъятия из жизни сразу отнимал у заключённого право на сочувствие. Отнимал даже право на жалость. Мандельштам столкнулся с этим по дороге в Чердынь, сразу же после ареста. Мандельштам с ужасом ощутил, что фактом ареста его обрекали на полное, абсолютное отщепенство.
А между тем жизнь продолжалась. Люди смеялись и плакали, любили. В Москве строили метро.
Ну, как метро? Молчи, в себе тая,
Не спрашивай, как набухают почки…
А вы, часов кремлёвские бои –
Язык пространства, сжатого до точки.
Надежда Яковлевна считает эти настроения последствиями травматического психоза, который Осип Эмильевич перенёс вскоре после ареста. Болезнь была очень тяжёлой, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства. У Осипа Эмильевича время от времени возникали желания примириться с действительностью и найти её оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием. Очень трудно человеку жить с сознанием, что вся рота шагает не в ногу и один только он, злополучный прапорщик, знает истину. Особенно если "рота" эта – весь многомиллионный народ. Остаться вне народа всегда было для него страшней, чем остаться вне истины. Вот почему этот жупел – "враг народа" – действовал на душу русского интеллигента так безошибочно и так страшно. Хуже всего было то, что и народ поверил в эту формулу, принял и бессознательно её узаконил.
Настоящее было фундаментом, на котором возводилось прекрасное завтра. Ощутить себя чужим сталинскому настоящему значило вычеркнуть себя не только из жизни, но и из памяти потомства. Вот почему Мандельштам не выдержал. Из последних сил пытается убедить себя в том, что прав был тот "строитель чудотворный", а он, Мандельштам заблуждался.
И не ограблен я и не надломлен,
Но только что всего переогромлен –
Как Слово о полку, струна моя туга,
Звучит земля – последнее оружье –
Сухая влажность чернозёмных га.
Ограбленный и надломленный, он пытается уверить себя в обратном. С ним случилось худшее. Он утратил сознание своей правоты. Резиновая дубинка сталинского государства ударила Мандельштама в самое больное место: в совесть. Всё шло к тому, чтобы неясный комплекс вины терзавший душу поэта, принял чёткие о определённые очертания вины перед Сталиным. Сталин говорил от имени вечности, от имени истории, от имени народа. Всё мгновенно изменилось, едва только была задета совесть Мандельштама. Случилось это "средь народного шума и спеха на вокзалах и площадях", там, где "шла пермяцкого говора сила, пассажирская шла борьба¼" Дело тут было уже не в самом Сталине, не в низкорослом, низколобом горце с жирными пальцами, а в его идеальных чертах, в его облике, в его портрете, который вся эта голодная, нищая толпа вобрала в свою душу, приняла и узаконила так же бессознательно, как она приняла и узаконила словосочетание "враг народа".
Чувство смежности со страной, с её многомиллионным народом было таким мощным, таким всепоглощающим, что оно незаметно перевернуло, поставило с ног на голову все представления Мандельштама об истине, всю его вселенную:
Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмущавшего меня, как очевидца,
Заметила – и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.
Страну, бывшую для него прежде некой абстракцией, он вдруг увидел воочию, приобщился к ней, к её повседневной жизни, пил с нею из одной кружки. И сквозь дальность её расстояний, сквозь эти орущие, спешащие куда-то толпы людей, сквозь это великое переселение народов он вдруг, как сквозь гигантскую стеклянную чечевицу, заново увидел крохотный лучик адмиралтейской иглы.
Когда-то, до ареста Мандельштама устрашала мысль о неизбежном конце петербургского периода русской истории. Душа его не могла смириться с концом Санкт-Петербурга, города "Медного Всадника" и "Белых ночей". И вдруг, в далёкой дали от прежней своей жизни, средь "народного шума и спеха", Мандельштаму показалось, что петербургский период русской истории продолжается. Лучик Петровского адмиралтейства не угас, он вошёл составной частью в этот кровавый пожар. Мандельштам инстинктивно ухватился за эту надежду, как за последнюю возможность спасения.
Принять её – значило признать, что "душегубец и мужикоборец" прав, что он воистину "строитель чудотворный". Но не принять было ещё страшней: ведь это означало "выпасть" из истории, остаться в стороне от этого "народного шума и спеха", от великого исторического дела.
На заседании, посвящённом 84-й годовщине смерти Пушкина, где Блок говорил о назначении поэта, Владислав Ходасевич высказал предположение, что желание ежегодно отмечать пушкинскую годовщину рождено предчувствием надвигающейся непроглядной тьмы. "Это не мы уславливаемся, – сказал он, – каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке".
Мандельштаму не оставили даже этого. Его убедили, что даже Пушкин принадлежит не ему, а его конвоирам.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась, хорошо.
Сухомятная русская сказка. Деревянная ложка – ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина чудный товар не пошёл по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов –
Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Тот самый Мандельштам, который сопротивлялся дольше всех, который ни за что на свет не соглашался "присевших на школьной скамье учить щебетать палачей", испытал вдруг потребность вступить со своими палачами в духовный контакт. Захотев, подобно Ходасевичу, аукнуться с кем-нибудь в надвигающемся мраке, он не нашёл ничего лучшего, как крикнуть "ау!" трём славным ребятам из "железных ворот ГПУ".
У него отняли всё, не оставив ни малейшей зацепки, ни даже крохотного островка, где он мог бы утвердить своё не тронутое, не уничтоженное сознание. Единственное, за что ещё мог ухватиться, – было вот это, вновь нажитое: летящая по ветру белая занавеска, кружка-жестянка, "тот с водой кипячёной бак". И можно ли его упрекать в том, что он вцепился в эту занавеску, как в последнюю ниточку, связывающую его с жизнью?
В стихах Мандельштама о его вине перед Сталиным ("И ласкала меня, и сверлила от стены этих глаз журьба"), при всей их искренности, почти неощутима связь этого конкретного чувства с самыми основами личности художника. Как будто все прежние его жизненные впечатления, знакомые нам "до прожилок, до детских припухших желёз", были стёрты до основания. В известном смысле эти искренние стихи Мандельштама свидетельствуют против Сталина даже сильнее чем те, написанные под прямым нажимом. Они свидетельствуют о вторжении сталинской машины в самую душу поэта. Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Взяв его в этом качестве, Сталин хотел продиктовать свои условия самой вечности. Он хотел, чтобы перед судом далёких потомков загнанный, затравленный поэт выступил свидетелем его, Сталина, исторической правоты.
Что говорить! Он многого добился, расчетливый кремлёвский горец. В его расположении были армия и флот, и Лубянка, и самая совершенная в мире машина психологического воздействия, официально именуемая морально-политическим единством советского народа. А всему этому противостояла такая малость – слабая, раздавленная, кровоточащая человеческая душа.
Но главная победа сталинского государства над душой художника была достигнута почти без применения грубой силы. Заложника вечности убедили в том, что нет и никогда больше не будет другой вечности, кроме той, от имени которой говорил Сталин.
По приговору, вынесенному без суда, поэт был лишён элементарных человеческих прав, обречён на положение ссыльного. К тому же – лишённого средств к существованию, перебивающегося случайными заработками в газете, на радио, живущего на скудную помощь друзей. "Я по природе своей ожидальщик. Оттого мне здесь ещё труднее", – говорил он в Воронеже А. Ахматовой.
И, однако, Воронеж он полюбил: здесь ещё ощущался вольный дух российских окраин, здесь взору открывались просторы родной земли:
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь молчит в апрельском повороте…
А небо, небо – твой Буонаротти!"
Имя гениального итальянского архитектора, скульптора и живописца естественно возникает в стихе: прикованный к месту своей ссылки, поэт с особой остротой ощущает, как велик и прекрасен мир, в котором живёт человек. Стоит подчеркнуть: живёт в мире, столь же родном для него, как родимый дом, город, наконец, страна:
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим – яснеющим в Тоскане.
Купленные в Воронеже простые школьные тетради заполнялись быстро ложившимися строками стихов. Толчком для их возникновения становились подробности окружавшей поэта жизни. В стихах этих открывалась человеческая судьба: страдания, тоска, желание быть услышанным людьми. Но не только это: горизонты здесь стремительно раздвигались, поэту оказывались подвластны даже пространство и время. Воронежские "…переулков лающие чулки И улиц перекошенных чуланы", "обледенелая водокачка", по прихоти воображения замещаются иными петербургскими видениями ("Слышу, слышу ранний лёд, Шелестящий под мостами, Вспоминаю, как плывёт Светлый хмель над головами"), которые в свою очередь, заставляют вспомнить о Флоренции, воспетой великим Данте.
Когда Мандельштам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым – кто подвернётся. Он вёл стихи как мелодию – от форте к пиано, с повышениями и понижениями. Надежда Яковлевна знала наизусть все воронежские стихи. Осип Эмильевич читал стихи превосходно. У него был очень красивый тембр голоса. Читал он энергично, без тени слащавости и подвывания, подчёркивая ритмическую сторону стихотворения. Однажды Осип Эмильевич написал новые стихи, состояние у него было возбуждённое. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: "Нет, слушайте, мне больше некому читать!". Оказалось, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплён. Мандельштам всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной. Об этом пишет и Анна Ахматова: "В Воронеже его с не очень чистыми побуждениям заставили прочесть доклад об акмеизме. Он ответил: "Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мёртвых". (Говоря о мёртвых, Осип Эмильевич имел в виду Гумилева). А на вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: "Тоска по мировой культуре".
В Воронеже Мандельштамы переехали вскоре на другую квартиру. В маленьком одноэтажном домике они снимали комнату у театральной портнихи. Удобств никаких не было, отопление печное. Убранством комната мало отличалась от прежней: две кровати, стол, какой-то нелепый длинный чёрный шкаф и старая, обитая дермантином кушетка. Так как стол был единственным, то на нем лежали и книги, и бумаги, дымковские игрушки и кое-какая посуда. В шкафу хранились те немногие книги, с которыми Осип Эмильевич не расставался. Он часто читал стихи своих любимых поэтов: Данте, Петрарку, Клейста. Одним из любимых русских поэтов Мандельштама был Батюшков. В чудесном стихотворении "Батюшков", написанном Мандельштамом ещё в 1932 году, он говорит о нём как о современнике, ощущая его присутствие:
Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живёт.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поёт.
Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему.
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму…
Это и понятно, учителями Батюшкова были Тассо, Петрарка. Пластика, скульптурность и в особенности не слыханное у нас до него благозвучие, "итальянская гармония стиха", – всё это, конечно, очень близко Мандельштаму. Из современников он больше всех ценил Пастернака, которого постоянно вспоминал. В новогоднем письме Осип Эмильевич писал Пастернаку: "Дорогой Борис Леонидович. Когда вспоминаешь весь великий объём вашей жизненной работы, весь её несравненный охват – для благодарности не найдёшь слов. Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям.… Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за всё и за то, что это "всё" – ещё не "всё".
Наталья Штемпель вспоминает: " Я хорошо помню первое впечатление, которое произвёл на меня Осип Эмильевич. Лицо нервное, выражение часто самоуглублённое, внутренне сосредоточенное, голова несколько закинута назад, очень прямой, почти с военной выправкой, и это настолько бросалось в глаза, что как-то мальчишки крикнули: "Генерал идёт!". Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему, и старый, редко глаженный костюм, выглядевший на нём элегантно. Вид независимый и непринуждённый. Он, безусловно, останавливал на себе внимание – он был рождён поэтом, другого о нём ничего нельзя было сказать. Казался он значительно старше своих лет. У меня всегда было ощущение, что таких людей как он нет". Мандельштам никогда на обстоятельства, условия жизни. Прекрасно он сказал об этом:
Ещё не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утишен, –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
У него не было мелких повседневных желаний, какие бывают у всех. Мандельштам и, допустим, машина, дача – совершенно несовместимо. Но он был богат, богат, как сказочный король: и "равнины дышащее чудо", и чернозём "в апрельском провороте", и земля, "мать подснежников, клёнов, дубков", – всё принадлежало ему.
Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё, воронежских холмов –
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.
Он мог остановиться зачарованный перед корзиной весенних лиловых ирисов и мольбой в голосе попросить: "Надюша, купи!" А когда Надежда Яковлевна начинала отбирать отдельные цветы, с горечью воскликнуть: "Всё или ничего!" "Но у нас ведь нет денег, Ося", – напоминала она.
Так и не были куплены ирисы. Что-то детски трогательное было в этом эпизоде. Очень любил Осип Эмильевич живопись, об этом говорят его стихи – "Импрессионизм" и воронежские: "Улыбнись, ягнёнок гневный с Рафаэлева холста…" или "Как светотени мученик Рембрандт…". Надежда Яковлевна считала, что в "Рембрандте" Мандельштам говорит о себе ("резкость моего горящего ребра") и о своей голгофе, "лишённой всякого величия".
Стихотворение "Улыбнись, ягнёнок гневный…" Пастернак назвал перлом. Что послужило поводом к его созданию, какие именно реалии, сказать трудно. В воронежском музее картин Рафаэля нет. Быть может, по какой-то ассоциации Мандельштам вспомнил репродукцию с картины Рафаэля "Мадонна с ягнёнком". Там есть и ягнёнок, и "складки бурного покоя" на коленях преклонённой Мадонны, и пейзаж, и какой-то удивительной голубизны общий фон картины. Как правило, Мандельштам в своих стихах был точен.
Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому "Фаусту". Бывал он также и на симфонических концертах воронежского оркестра и особенно на сольных, когда кто-нибудь из известных скрипачей или пианистов приезжал из Москвы и Ленинграда. Музыку Мандельштам, пожалуй, любил больше всего. Не случайно после концерта скрипачки Галины Бариновой он написал и послал ей стихотворение "За Паганини длиннопалым…". В нём Осип Эмильевич непосредственно обращается к ней:
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк как Енисей,
Утешь меня игрой своей, –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка…
Помимо концертов Осип Эмильевич с удовольствием бывал и в кино. Оно привлекало его и раньше. Он написал несколько интересных кинорецензий. В одной из них Мандельштам написал: "Чем совершеннее киноязык, тем ближе он к тому ещё не осуществлённому мышлению будущего, которое мы называем кинопрозой с её могучим синтаксисом, – тем большее значение получает в фильме работа оператора".
Сильное впечатление, которое произвела на Мандельштама одна из первых звуковых картин – "Чапаев", отразилось в стихотворении "От сырой простыни говорящая…"
С большим интересом он смотрел картину Чарли Чаплина "Огни большого города". Мандельштам очень любил и высоко ценил Чаплина и созданные им фильмы:
А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли, –
В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницею…
"Осип Эмильевич много читал. Он брал книги в университетской фундаментальной библиотеке, доступ к которой получил ещё до нашего знакомства", – пишет Наталья Штемпель. Мандельштам высоко ценил эту библиотеку и не раз говорил, что в ней можно найти редчайшие книги, которые не всегда увидишь в столичных библиотеках. Вот и ещё была радость в его жизни – общение с книгами. Несмотря на изоляцию, подневольное положение и полное неведение, чем обернётся будущее, Осип Эмильевич жил в духовном отношении активной, деятельной жизнью, его интересовало всё. Его волновали испанские события. Он начал даже изучать испанский язык и очень быстро овладел им.
Апатия была не свойственна характеру Осипа Эмильевича, чуждо было ему и желчное раздражение, но в гнев он впадал не раз. Он мог быть озабочен, сосредоточен, самоуглублён, но даже в тех условиях умел быть и беззаботно весёлым, лукавым, умел шутить.
В январе 1937 года Мандельштам чувствовал себя особенно тревожно, он задыхался… И всё-таки в эти январские дни им было написано много замечательных стихотворений. В них узнавалась наша русская зима, морозная, солнечная, яркая:
В лицо морозу я гляжу один, –
Он – никуда, я – ниоткуда.
И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
А солнце щурится в краеугольной нищите,
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те…
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.
Но тревога нарастала, и уже в следующем стихотворении Мандельштам пишет:
О, этот медленный одышливый простор –
Я им пресыщен до отказа!
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!
И всё разрешается замечательным и страшным стихотворением:
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок.
От замкнутых я, что ли, пьян дверей?
И хочется мычать от всех замков и скрепок…
Если Мандельштама не особенно угнетало отсутствие средств к существованию, то та изоляция, в которой он оказался в Воронеже, при его деятельной, активной натуре порой для него была не переносима, он метался, не находил себе места. Вот в один из таких острых приступов тоски Мандельштам и написал это трагическое стихотворение.
Как ужасно здесь чувство бессилия! Вот, на глазах задыхается человек, ему не хватает воздуха, а ты только смотришь и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права даже подать виду. В этом стихотворении узнаёшь внешние приметы города. На стыке нескольких улиц – Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы – действительно стояла водокачка (маленький кирпичный домик с окошком и дверью), был и деревянный короб для стока воды, и всё равно люди расплёскивали её, кругом всё обледенело.
И в яму, и в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаюсь, мёртвый воздух ем.
И разлетаются грачи в горячке,
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мёрзлый деревянный короб…
"В эти дни я как-то пришла к Мандельштамам", – вспоминает Наталья Штемпель. – "Мой приход не вызвал обычного оживления. Не помню кто, Надежда Яковлевна или Осип Эмильевич сказал: "Мы решили объявить голодовку". Мне стало страшно. Возможно, видя моё отчаяние, Осип Эмильевич начал читать стихи. Сначала свои стихи, потом Данте. И через полчаса уже не существовало ничего в мире, кроме всесильной гармонии стихов".
Только такой чародей, как Осип Эмильевич, умел увести в другой мир. Нет ни ссылки, ни Воронежа, ни этой убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы отдельного человека. Необъятный мир чувства, мысли, божественной, всесильной музыки слов захватывает целиком, и кроме него ничего не существует. Чита он стихи неповторимо, у него был очень красивый голос, грудной, волнующий, с поразительным богатством интонаций и с удивительным чувством ритма. Читал он часто с какой-то нарастающей интонацией. И, кажется, это невыносимо, невозможно выдержать этого подъёма, взлёта, ты задыхаешься, у тебя перехватывает дыхание, и вдруг на саамом предельном объёме голос разливается широкой, свободной волной. Трудно представить человека, который умел бы так уходить от своей судьбы, становясь духовно свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни, и это чувство передавалось другим.
Анна Ахматова, которая навестила поэта в изгнании в феврале 1936 года, так передала своё впечатление от его жизни в известном стихотворении "Воронеж", посвященном Мандельштаму:
А в комнате опального поэта
Дежурит страх и муза в свой черёд.
И ночь идёт, которая наведает рассвета.
А ведь она побывала здесь тогда, когда ещё существовали какие-то связи с писательскими организациями. Мандельштам, рассказывая о приезде Анны Ахматовой, смеясь говорил: "Анна Андреевна обиделась, что я не умер". Он, оказывается, дал ей телеграмму, что при смерти. И она приехала, осталась верной старой дружбе.
"Наше благополучие кончилось осенью 1936 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, не оказалось и работы в театре, газетная работа тоже отпала. Рухнуло всё сразу", – писала Надежда Яковлевна. Мандельштамы оказались в изоляции.
В апреле 1937 года Мандельштам писал Корнею Ивановичу Чуковскому: "Я поставлен в положение собаки, пса… Меня нет. Я – тень. У меня только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство… Нового приговора к ссылке я не вынесу. Не могу".
В апреле в областной газете "Коммуна" появилась статья, направленная против Мандельштама. Несколько позже, в том же 1937 году, в первом номере альманаха "Литературный Воронеж", выпад против Мандельштама был ещё более резким.
1 мая 1938 года в Саматихе, в доме отдыха, куда получили путёвки Мандельштамы, Осип Эмильевич был арестован вторично.
9 сентября (т.е. через четыре месяца) Мандельштам был отправлен в лагерь. На этот раз Надежда Яковлевна уже не предполагала его сопровождать. Через Шуру, брата Мандельштама, она получила письмо от Осипа Эмильевича из пересылочного лагеря под Владивостоком с просьбой выслать посылку. Она сделала это сразу, но Осип Эмильевич ничего не успел получить. Деньги и посылка вернулись с пометкой: "За смертью адресата".
Писал Осип Эмильевич много, и никакие превратности судьбы не являлись препятствием для напряжённой творческой работы, он буквально горел и, как это ни парадоксально, был по-настоящему счастлив. Эпоха, век ждали от Осипа Мандельштама большего, чем он сделал, - он знал об этом, знал и мучался этим. Он не сумел быстро расстаться со всеми «родимыми пятнами» прошлого. Но все, что было им написано, все было создано честно, убежденно, искренне, талантливо. Все было написано умным, трепетным, ищущим мастером
ЛИТЕРАТУРА
1. Аксаков А. Осип Эмильевич Мандельштам. - С.112-131.
2. Русская литература ХХ века (под ред. Прониной Е.П.). - М., -1994. - С.91-106.
3. Карпов А. Осип Эмильевич Мандельштам. - М.
5. Мандельштам, Н.Я. Воспоминания/Н.Я.Мандельштам-M.: Книга, 1989.-480е.-С.222
6. Аверинцев, С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама / С.С.Аверинцев // Аверинцев С.С. Поэты.- M.: Школа «Языки русской культуры», 1996-С. 189-276-С. 207
7. Мандельштам, О.Э. Стихотворения. Проза / О.Э.Мандельштам.- М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002,- 704 е.- С. 433
(3 января по старому стилю) 1891 года в Варшаве (Польша) в семье кожевенника и мастера перчаточного дела. Старинный еврейский род Мандельштамов дал миру известных раввинов, физиков и врачей, переводчиков Библии и историков литературы.
Вскоре после рождения Осипа, его семья переехала в город Павловск недалеко от Петербурга, а затем в 1897 году — в Петербург.
В 1900 году Осип Мандельштам поступил в Тенишевское коммерческое училище. Большое влияние на формирование юноши во время учебы оказал преподаватель русской словесности Владимир Гиппиус. В училище Мандельштам начал писать стихи, одновременно увлекшись идеями эсеров.
Сразу же после окончания в 1907 году училища Мандельштам уехал в Париж, слушал лекции в Сорбонне. Во Франции Мандельштам открыл для себя старофранцузский эпос, поэзию Франсуа Вийона, Шарля Бодлера, Поля Верлена. Познакомился с поэтом Николаем Гумилевым.
В 1909-1910 годах Мандельштам жил в Берлине, занимался философией и филологией в Гейдельбергском университете.
В октябре 1910 года он вернулся в Петербург. Литературный дебют Мандельштама состоялся в августе 1910 года, когда в журнале "Аполлон" были напечатаны пять его стихотворений. В эти годы он увлекался идеями и творчеством поэтов-символистов, стал частым гостем Вячеслава Иванова, теоретика символизма, у которого собирались талантливые литераторы.
В 1911 году Осип Мандельштам, желая систематизировать свои знания, поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. К этому времени он прочно вошел в литературную среду — принадлежал к группе акмеистов (от греческого "акме" — высшая степень чего-либо, цветущая сила), к организованному Николаем Гумилевым "Цеху поэтов", в который входили Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Михаил Кузмин и др.
В 1913 году в издательстве "Акмэ" вышла первая книга Мандельштама "Камень", куда вошли 23 стихотворения 1908-1913 годов. К этому времени поэт уже отошел от влияния символизма. В эти годы стихи Мандельштама часто печатались в журнале "Аполлон", молодой поэт завоевывал известность. В декабре 1915 года вышло второе издание "Камня" (издательство "Гиперборей"), по объему почти втрое больше первого (сборник был дополнен текстами 1914-1915 годов).
В начале 1916 года на литературном вечере в Петрограде Мандельштам познакомился с Мариной Цветаевой. С этого вечера началась их дружба, своеобразным "поэтическим" итогом которой стало несколько стихотворений, посвященных поэтами друг другу.
1920-е годы были для Мандельштама временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Вышли новые поэтические сборники: Tristia (1922), "Вторая книга" (1923), "Камень" (3-е издание, 1923). Стихи поэта печатались в Петрограде, Москве, Берлине. Мандельштам опубликовал ряд статей по важнейшим проблемам истории, культуры и гуманизма: "Слово и культура", "О природе слова", "Пшеница человеческая" и др. В 1925 году Мандельштам выпустил автобиографическую книгу "Шум времени". Вышли несколько книг для детей: "Два трамвая", "Примус" (1925), "Шары" (1926). В 1928 году была опубликована последняя прижизненная книга стихов Мандельштама "Стихотворения", а чуть позже — сборник статей "О поэзии" и повесть "Египетская марка".
Много времени Мандельштам отдавал переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языками, он брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е годы, когда началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг.
В 1930 году Мандельштам посетил Армению. Результатом этой поездки явилась проза "Путешествие в Армению" и стихотворный цикл "Армения", который был лишь частично опубликован в 1933 году.
Осенью 1933 года Мандельштам написал стихотворную эпиграмму против Сталина "Мы живем, под собою не чуя страны…", за которую в мае 1934 года был арестован. Его выслали в Чердынь на Северном Урале, где он пробыл две недели, заболел и попал в больницу. Затем он был выслан в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки Мандельштам вернулся в Москву, но здесь ему жить было запрещено. Поэт жил в Калинине (сейчас город Тверь).
В мае 1938 года Мандельштама вновь арестовали. Приговор — пять лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток.
Умер Осип Мандельштам 27 декабря 1938 года в больничном бараке в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас в черте города Владивостока).
Имя Осипа Мандельштама оставалось в СССР под запретом около 20 лет.
Жена поэта Надежда Яковлевна Мандельштам и друзья поэта сохранили его стихи, которые в 1960-х годах стало возможным опубликовать. В настоящее время изданы все произведения Мандельштама.
В 1991 году в Москве было создано Мандельштамовское общество, целью которого является собирание, сохранение, изучение и популяризация творческого наследия одного из великих русских поэтов XX столетия. С 1992 года Мандельштамовское общество базируется в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).
В апреле 1998 года как совместный проект университета и Мандельштамовского общества был открыт Кабинет мандельштамоведения научной библиотеки РГГУ.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
Русская литература Серебряного века
Осип Эмильевич Мандельштам
Биография
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891 - 1938), поэт, переводчик.
Родился 3 января (15 н.с.) в Варшаве в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Через год семья поселяется в Павловске, затем в 1897 переезжает на жительство в Петербург. Здесь заканчивает одно из лучших петербургских учебных заведений - Тенишевское коммерческое училище, давшее ему прочные знания в гуманитарных науках, отсюда началось его увлечение поэзией, музыкой, театром (директор училища поэт-символист Вл. Гиппиус способствовал этому интересу).
В 1907 Мандельштам уезжает в Париж, слушает лекции в Сорбонне, знакомится с Н.Гумилевым. Интерес к литературе, истории, философии приводит его в Гейдельбергский университет, где он слушает лекции в течение года. Наездами бывает в Петербурге, устанавливает свои первые связи с литературной средой: прослушивает курс лекций по стихосложению на «башне» у В.Иванова.
Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910, когда в журнале «Аполлон» были напечатаны его пять стихотворений. В эти годы он увлекается идеями и творчеством поэтов-символистов, становится частым гостем В. Иванова, теоретика символизма, у которого собирались талантливые литераторы.
В 1911 Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, желая систематизировать свои знания. К этому времени он прочно входит в литературную среду - он принадлежит к группе акмеистов (от греческого акме - высшая степень чего-либо, цветущая сила), к организованному Н. Гумилевым «Цеху поэтов», в который вхолили А. Ахматова, С. Городецкий, М. Кузмин и др. Мандельштам выступает в печати не только со стихами, но и со статьями на литературные темы.
В 1913 вышла в свет первая книга стихотворений О. Мандельштама - «Камень», сразу поставившая автора в ряд значительных русских поэтов. Много выступает с чтением своих стихов в различных литературных объединениях.
В предоктябрьские годы появляются новые знакомства: М Цветаева, М. Волошин, в доме которого в Крыму Мандельштам бывал несколько раз.
В 1918 Мандельштам живет то в Москве, то в Петрограде, потом в Тифлисе, куда приехал ненадолго и потом приезжал снова и снова. Н. Чуковский написал: «…у него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости - он вел бродячий образ жизни, …я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада».
1920-е были для него временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Вышли новые поэтические сборники - «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923), «Стихотворения» (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе - сборник «О поэзии» (1928). Были изданы две книги прозы - повесть «Шум времени» (1925) и «Египетская марка» (1928). Вышли и несколько книжек для детей - «Два трамвая», «Примус» (1925), «Шары» (1926). Много времени Мандельштам отдает переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языком, он брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е, когда началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг. Осенью 1933 пишет стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», за которое в мае 1934 был арестован. Только защита Бухарина смягчила приговор - выслали в Чердынь-на-Каме, где пробыл две недели, заболел, попал в больницу. Был отправлен в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки возвращается в Москву, но здесь ему жить запрещают. Живет в Калинине. Получив путевку в санаторий, уезжает с женой в Саматиху, где он был вновь арестован. Приговор - 5 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток. В пересыльном лагере на Второй речке (теперь в черте Владивостока) 27 декабря 1938 О. Мандельштам умер в больничном бараке в лагере. В. Шкловский сказал о Мандельштаме: «Это был человек… странный… трудный… трогательный… и гениальный!» Жена поэта Надежда Мандельштам и некоторые испытанные друзья поэта сохранили его стихи, которые в 1960-е появилась возможность опубликовать. Сейчас изданы все произведения О.Мандельштама.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938 гг.) – писатель, переводчик. Родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве. Отец Осипа занимался мелкой торговлей и кожевенным производством. Семья Мандельштамов переезжает в Павловск в 1892 году, а затем через 5 лет – в Петербург. Учился Осип в Тенишевском коммерческом училище.
Приехав в Париж в 1907 году, Мандельштам становится слушателем лекций в Сорбонне. Также в течение года он посещает лекционные занятия в Гейдельбергском университете.
В 1913 году издается первый сборник стихотворений «Камень». В 20-е годы много работает над переводами. Идеально зная немецкий, английский и французский язык, активно переводит прозу и поэзию современных зарубежных писателей.
В 30-е годы Мандельштам устало сложно печататься из-за открытой травли. Поэтому он переводил десятки книг. За написание стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933) был задержан и выслан в Чердынь-на-Каме в ссылку. Через несколько недель из-за проблем со здоровьем попадает в больницу. Мандельштама отправляют в Воронеж, там он работает в периодических изданиях и на радио. Даже после завершения срока ссылки, писателю не разрешают жить в Москве. За контрреволюционную деятельность его отправляют на Дальний Восток во вторую ссылку на 5 лет прямо с санатория, где он отдыхал с женой.
Осип 1 Эмильевич Мандельштам родился 3 января 1891 года в Варшаве, детство и юность его прошли в Петербурге. Позднее, в 1937 году, Мандельштам о времени своего рождения напишет:
Я родился в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году... ("Стихи о неизвестном солдате")Здесь "в ночь" содержит в себе зловещее предзнаменование трагической судьбы поэта в ХХ веке и служит метафорой всего ХХ века, по определению Мандельштама - "века-зверя".
Воспоминания Мандельштама о детских и юношеских годах сдержанны и строги, он избегал раскрывать себя, комментировать себя и свои стихи. Он был рано созревшим, точнее - прозревшим поэтом, и его поэтическую манеру отличает серьезность и строгость.
То немногое, что мы находим в воспоминаниях поэта о его детстве, о той атмосфере, которая его окружала, о том воздухе, которым ему приходилось дышать, скорее окрашено в мрачные тона:
Из омута злого и вязкого Я вырос, тростинкой шурша, И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша. ("Из омута злого и вязкого...")"Запретною жизнью" - это о поэзии.
Семья Мандельштама была, по его словам, "трудная и запутанная", и это с особенной силой (по крайней мере в восприятии самого Осипа Эмильевича) проявлялось в слове, в речи. Речевая "стихия" семьи была своеобразной. Отец, Эмилий Вениаминович Мандельштам, самоучка, коммерсант, был совершенно лишен чувства языка. В книге "Шум времени" Мандельштам писал: "У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие... Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза". Речь матери, Флоры Осиповны, учительницы музыки, была иной: "Ясная и звонкая, литературная великая русская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, - но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное". От матери Мандельштам унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство русского языка, точность речи.
В 1900-1907 годах Мандельштам учится в Тенишевском коммерческом училище, одном из лучших частных учебных заведений России (в нем учились в свое время В. Набоков, В. Жирмунский).
После окончания училища Мандельштам трижды выезжает за границу: с октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, с осени 1909 по весну 1910 года изучает романскую филологию в Гейдельбергском университете в Германии, с 21 июля по середину октября живет в пригороде Берлина Целендорфе. Эхо этих встреч с Западной Европой звучит в стихотворениях Мандельштама вплоть до последних произведений.
Становление поэтической личности Мандельштама было определено его встречей с Н. Гумилевым и А. Ахматовой. В 1911 году Гумилев вернулся в Петербург из абиссинской экспедиции, и все трое затем часто встречались на различных литературных вечерах. Впоследствии, через много лет после расстрела Гумилева, Мандельштам писал Ахматовой, что Николай Степанович был единственным, кто понимал его стихи и с кем он разговаривает, ведет диалоги и поныне. Об отношении же Мандельштама к Ахматовой ярче всего свидетельствуют его слова: "Я - современник Ахматовой". Чтобы такое публично заявить в годы сталинского режима, когда поэтесса была опальной, надо было быть Мандельштамом.
Все трое, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, стали создателями и виднейшими поэтами нового литературного течения - акмеизма. Биографы пишут, что вначале между ними возникали трения, потому что Гумилев был деспотичен, Мандельштам вспыльчив, а Ахматова своенравна.
Первый поэтический сборник Мандельштама вышел в 1913 году, издан он был за свой счет 2 . Предполагалось, что он будет называться "Раковина", но окончательное название было выбрано другое - "Камень". Название вполне в духе акмеизма. Акмеисты стремились как бы заново открыть мир, дать всему ясное и мужественное имя, лишенное элегического туманного флера, как у символистов. Камень - природный материал, прочный и основательный, вечный материал в руках мастера. У Мандельштама камень являет собой первичный строительный материал культуры духовной, а не только материальной.
В 1911-1917 годах Мандельштам учится на романо-германском отделении историко-филологического факультета Петербургского университета.
Отношение Мандельштама к революции 1917 года было сложным. Однако любые попытки Мандельштама найти свое место в новой России заканчивались неудачей и скандалом. Вторая половина 1920-х годов для Мандельштама - это годы кризиса. Поэт молчал. Новых стихов не было. За пять лет - ни одного.
В 1929 году поэт обращается к прозе, пишет книгу под названием "Четвертая проза". Она невелика по объему, но в ней сполна выплеснулась та боль и презрение поэта к писателям-конъюнктурщикам ("членам МАССОЛИТа"), что копилась долгие годы в душе Мандельштама. "Четвертая проза" дает представление о характере поэта - импульсивном, взрывном, неуживчивом. Мандельштам очень легко наживал себе врагов, своих оценок и суждений не таил. Из "Четвертой прозы": "Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.
Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей - ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать - в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед".
Можно себе представить, какого накала достигала взаимная ненависть: ненависть тех, кого отвергал Мандельштам, и кто отвергал Мандельштама. Поэт всегда, практически все послереволюционные годы, жил в экстремальных условиях, а в 1930-е годы - в ожидании неминуемой смерти. Друзей, почитателей его таланта, было не так много, но они были.
Мандельштам рано осознал себя как поэт, как творческая личность, которой предназначено оставить свой след в истории литературы, культуры, мало того - "что-то изменить в строении и составе ее" (из письма Ю.Н. Тынянову). Мандельштам знал себе цену как поэту, и это проявилось, например, в незначительном эпизоде, который описывает В. Катаев в своей книге "Алмазный мой венец":
"Встретившись с щелкунчиком (т.е. Мандельштамом) на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал щелкунчику традиционный светский вопрос:
Что новенького вы написали?
На что щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался:
Если бы я что-нибудь написал новое, то об этом уже давно бы знала вся Россия! А вы невежда и пошляк! - закричал щелкунчик, трясясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактному беллетристу" 3 .
Мандельштам не был приспособлен к быту, к оседлой жизни. Понятие дома, дома-крепости, очень важное, например, в художественном мире М. Булгакова, не было значимым для Мандельштама. Для него дом - весь мир, и в то же время в этом мире он - бездомный.
К.И. Чуковский вспоминал о Мандельштаме начала 1920-х годов, когда тот, как и многие другие поэты и писатели, получил комнату в петроградском Доме Искусств: "В комнате не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос, - ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту - безбытность". В 1933 году Мандельштам получил, наконец, квартиру - двухкомнатную! Побывавший у него в гостях Б. Пастернак, уходя, сказал: "Ну вот, теперь и квартира есть - можно писать стихи". Мандельштам пришел в ярость. Он проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям. Это был ужас перед той платой, которая за квартиру требовалась.
Сознание сделанного выбора, осознание трагизма своей судьбы, видимо, укрепили поэта, дали ему силу, придали трагический, величественный пафос его новым стихам 4 . Этот пафос заключается в противостоянии свободной поэтической личности своему веку - "веку-зверю". Поэт не ощущает себя перед ним ничтожным, жалкой жертвой, он осознает себя равным:
...Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей, Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей, Уведи меня в ночь, где течет Енисей, И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет. 17-28 марта 1931 ("За гремучую доблесть грядущих веков...")В домашнем кругу это стихотворение называли "Волком". В нем Осип Эмильевич предсказал и будущую ссылку в Сибирь, и свою физическую смерть, и свое поэтическое бессмертие. Он многое понял раньше, чем другие.
Надежда Яковлевна Мандельштам, которую Е. Евтушенко назвал "самой великой вдовой поэта в ХХ веке", оставила две книги воспоминаний о Мандельштаме - о его жертвенном подвиге поэта. Из этих воспоминаний можно понять, "даже не зная ни одной строчки Мандельштама, что на этих страницах вспоминают о действительно большом поэте: ввиду количества и силы зла, направленных против него".
Искренность Мандельштама граничила с самоубийством. В ноябре 1933 года он написал резко сатирическое стихотворение о Сталине:
Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, - Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, А слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усища, И сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучет, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет. Как подковы кует за указом указ - Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него, - то малина И широкая грудь осетина.И это стихотворение Осип Эмильевич читал многим знакомым, в том числе Б. Пастернаку. Тревога за судьбу Мандельштама побудила Пастернака в ответ заявить: "То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу Вас не читать их никому". Да, Пастернак прав, ценность этого стихотворения не в его литературных достоинствах. На уровне лучших поэтических открытий здесь находятся первые две строки:
Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны...Как ни удивительно, приговор Мандельштаму был вынесен довольно мягкий. Люди в то время погибали и за гораздо меньшие "провинности". Резолюция Сталина всего лишь гласила: "Изолировать, но сохранить", - и Осип Мандельштам был отправлен в ссылку в далекий северный поселок Чердынь. В Чердыни Мандельштам, страдая от душевного расстройства, пытался покончить с собой. Снова помогли друзья. Н. Бухарин, уже теряющий свое влияние, в последний раз написал Сталину: "Поэты всегда правы; история на их стороне"; Мандельштам был переведен в менее суровые условия - в Воронеж.
Конечно, судьба Мандельштама была предрешена. Но сурово наказывать его в 1933 году значило бы афишировать то злополучное стихотворение и как бы сводить личные счеты тирана с поэтом, что было бы явно не достойным "отца народов". Всему свое время, Сталин умел ждать, в данном случае - большого террора 1937 года, когда Мандельштаму суждено было сгинуть безвестно вместе с сотнями тысяч других.
Воронеж приютил поэта, но приютил враждебно. Из воронежских тетрадей (при жизни неопубликованных):
Пусти меня, отдай меня, Воронеж, - Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь - Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож! 1935 Воронеж Эта, какая улица? 5 Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова! - Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нрава он не был лилейного, И потому эта улица, Или, верней, эта яма - Так и зовется по имени Этого Мандельштама. Апрель, 1935 ВоронежПоэт сражался с подступающим отчаянием: средств к существованию не было, с ним избегали встречаться, дальнейшая судьба была неясной, и всем своим существом поэта Мандельштам ощущал: "век-зверь" его настигает. А. Ахматова, навестившая Мандельштама в ссылке, свидетельствует:
А в комнате опального поэта Дежурят страх и муза в свой черед. И ночь идет, Которая не ведает рассвета. ("Воронеж")"Дежурят страх и муза..." Стихи шли неостановимо, "невосстановимо" (как сказала М. Цветаева в это же время - в 1934 году), они требовали выхода, требовали быть услышанными. Мемуаристы свидетельствуют, что однажды Мандельштам бросился к телефону-автомату и читал новые стихи следователю, к которому был прикреплен: "Нет, слушайте, мне больше некому читать!" Нервы поэта были оголены, и боль свою он выплескивал в стихах.
Поэт был в клетке, но он не был сломлен, он не был лишен внутренней тайной свободы, которая поднимала его надо всем даже в заточении:
Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли.Стихи воронежского цикла долгое время оставались неопубликованными. Они не были, что называется, политическими, но даже "нейтральные" стихи воспринимались как вызов, потому что являли собой Поэзию, неподконтрольную и неостановимую. И не менее опасную для власти, потому что "песнь есть форма языкового неповиновения, и ее звучание ставит под сомнение много больше, чем конкретную политическую систему: оно колеблет весь жизненный уклад" (И. Бродский).
Стихи Мандельштама резко выделялись на фоне общего потока официальной литературы 1920-30-х годов. Время требовало стихов, нужных ему, как знаменитое стихотворение Э. Багрицкого "ТВС" (1929):
А век поджидает на мостовой, Сосредоточен, как часовой. Иди - и не бойся с ним рядом встать. Твое одиночество веку под стать. Оглянешься - а вокруг враги; Руки протянешь - и нет друзей. Но если он скажет: "Солги", - солги. Но если он скажет: "Убей", - убей.Мандельштам понимал: ему "рядом с веком" не встать, его выбор другой - противостояние жестокому времени.
Стихи из воронежских тетрадей, как и многие стихи Мандельштама 1930-х годов, проникнуты ощущением близкой гибели, иногда они звучат как заклинания, увы, безуспешные:
Еще не умер я, еще я не один, Покуда с нищенкой-подругой Я наслаждаюся величием равнин И мглой, и голодом, и вьюгой. В прекрасной бедности, в роскошной нищете Живу один - спокоен и утешен - Благословенный дни и ночи те, И сладкозвучный труд безгрешен. Несчастен тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит, И беден тот, кто, сам полуживой, У тени милостыни просит. Январь 1937 ВоронежВ мае 1937 года истек срок воронежской ссылки. Поэт еще год провел в окрестностях Москвы, пытаясь добиться разрешения жить в столице. Редакторы журналов даже боялись разговаривать с ним. Он нищенствовал. Помогали друзья и знакомые: В. Шкловский, Б. Пастернак, И. Эренбург, В. Катаев, хотя им и самим было нелегко. Впоследствии А. Ахматова писала о 1938 годе: "Время было апокалиптическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами".
2 мая 1938 года, перед восходом солнца, как это и было тогда принято, Мандельштама снова арестовывают, приговаривают к 5 годам каторжных работ и отправляют в Западную Сибирь, на Дальний Восток, откуда он уже не вернется. Сохранилось письмо поэта к жене, в котором он писал: "Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги - не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей".
Смерть поэта настигла в пересыльном лагере Вторая Речка под Владивостоком 27 декабря 1938 года... Одно из последних стихотворений поэта:
Уходят вдаль людских голов бугры, Я уменьшаюсь там - меня уж не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, что солнце светит. 1936-1937?XX век принес человеку неслыханные страдания, но и в этих испытаниях научил его дорожить жизнью, счастьем: начинаешь ценить то, что вырывают из рук.
В этих обстоятельствах с новой силой проявилось подспудное, тайное, изначальное свойство поэзии, без которого все другие теряют силу. Свойство это – способность вызывать в душе человека представление о счастье. Так устроены стихи, такова природа стиховой речи.
Анненский, Кузмин, Ахматова, Мандельштам вернули слову его предметное значение, а поэзии – вещность, красочность, объемность мира, его живое тепло.
Осип Эмильевич Мандельштам – поэт, прозаик, критик, переводчик, - творческий вклад которого в развитие русской литературы требует внимательного историко-литературного анализа.
Осип Мандельштам родился в 1891 году в еврейской семье. От матери Мандельштам унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка.
Мандельштам вспоминает: “Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения - а между тем у нее было что сказать. Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать - и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.”.
Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом - не просто “русскоязычным”, а именно русским. И это решение не такое само собой разумеющееся: начало века в России - время бурного развития еврейской литературы, как на иврите и на идише, так, отчасти, и на русском языке. Выбор сделан Мандельштамом в пользу русской поэзии и “христианской культуры”.
Все творчество Мандельштама можно разбить на шесть периодов:
1908 – 1911 – это «годы ученья» за границей и потом в Петербурге, стихи в традициях символизма;
1912 – 1915 - Петербург, акмеизм, «вещественные» стихи, работа над «Камнем»;
1916 – 1920 - революция и гражданская война, скитания, перерастание акмеизма, выработка индивидуальной манеры;
1921 – 1925 - промежуточный период, постепенный отход от стихотворства;
1926 – 1929 - мертвая стихотворческая пауза, переводы;
1930 – 1934 - поездка в Армению, возвращение к поэзии, «московские стихи»;
1935 – 1937 - последние, «воронежские» стихи.
Первый, наиболее ранний, этап творческой эволюции Мандельштама связан с его «учебой» у символистов, с участием в акмеистическом движении. На этом этапе Мандельштам выступает в рядах писателей-акмеистов. Но как же при этом очевидна его особость в их среде! Не искавший путей к революционным кругам поэт пришел к среде, во многом для него чужой. Вероятно, он был единственным акмеистом, который так отчетливо ощущал отсутствие контактов с «миром державным». Впоследствии, в 1931 году, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» Мандельштам поведал, что в годы юности он насильственно принуждал себя к «ассимиляции» в чужеродном литературном кругу, слитом с миром, который не дал Мандельштаму реальных духовных ценностей:
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью .
В раннем стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок…» прямо сказано об отчужденности, разобществленности, гнетущей многих людей в «равнодушной отчизне», - царской России:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!
Это осознание социального одиночества порождало у Мандельштама глубоко индивидуалистические настроения, приводило его к поискам «тихой свободы» в индивидуалистическом бытии, к иллюзорной концепции самоотграничения человека от общества:
Недоволен стою и тих
Я – создатель миров моих …
(«Истончается тонкий тлен…»)
Мандельштам – искренний лирик и искусный мастер - находит здесь чрезвычайно точные слова, определяющие его состояние: да, он и недоволен, но и тих, смиренен и смирен, его воображение рисует ему некий иллюзорный, сфантазированный мир покоя и примирения. Но реальный мир бередит его душу, ранит сердце, тревожит ум и чувства. И отсюда в его стихах столь широко «разлившиеся» по их строкам мотивы недовольства действительностью и собой.
В этом «отрицании жизни», в этом «самоуничижении» и «самобичевании» есть у раннего Мандельштама нечто роднящее его с ранними символистами. С ранними символистами юного Осипа Мандельштама сближает и ощущение катастрофичности современного мира, выраженное в образах бездны, пропасти, обступающей его пустоты. Однако, в отличие от символистов, Мандельштам не придает этим образам никаких двусмысленных, многосмысленных, мистических значений. Он выражает мысль, чувство, настроение в «однозначащих» образах и сравнениях, в точных словах, приобретающих иной раз характер определений. Его поэтический мир – вещный, предметный, порою «кукольный». В этом нельзя не почувствовать влияния тех требований, которые в поисках «преодоления символизма» выдвинули предакмеистские и акмеистские теоретики и поэты, - требований «прекрасной ясности» (М.Кузмин), предметности деталей, вещности образов (С.Городецкий).
В таких строках, как:
Немного красного вина,
Немного солнечного мая, -
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна, -
(«Невыразимая печаль…»)
Мандельштам необычайно близок к М.Кузмину, к красочности и конкретности деталей в его стихах.
Было время, - годы 1912-1916, - когда Мандельштама воспринимали как «правоверного» акмеиста. Поэт в ту пору сам содействовал такому восприятию его литературной позиции и творчества, вел себя как дисциплинированный член объединения. Но на самом деле он разделял далеко не все принципы, заявленные акмеистами в их декорациях. Весьма отчетливо можно увидеть различия между ним и таким поэтом акмеизма, каким был Н.Гумилев, сопоставив творчество обоих поэтов. Мандельштаму были чужды подчеркнутый аристократизм Гумилева, его антигуманистические идеи, холодность, бездушный рационализм ряда его произведений. Не только политически – в отношении к войне, революции – Мандельштам разошелся с Гумилевым, но и творчески. Как известно, Гумилев, претендовавший на преодоление символизма, его философии и поэтики, капитулировал перед ним, вернулся к символическому мистицизму и социальному пессимизму. Развитие Мандельштама было иным, противоположным: религиозность и мистика никогда не были ему свойственны, путь его эволюции был путем преодоления пессимистического мироотношения.
Литературные источники поэзии Мандельштама коренятся в русской поэзии XIX века, у Пушкина, Батюшкова, Баратынского, Тютчева.
Культ Пушкина начинается в творчестве Мандельштама уже на страницах книги «Камень». Петербургская тема у него овеяна «дыханием» пушкинского «Медного всадника»: тут и преклонение перед гением Петра, тут и образ пушкинского Евгения, резко противопоставленный «миру державному», образу предреволюционного, буржуазно-дворянского Петербурга:
Летит в туман моторов вереница,
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений, бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
(«Петербургские строфы»)
Тютчев также один из любимых русских поэтов Мандельштама, один из его учителей. В одной из своих ранних статей «Утро акмеизма» автор «Камня» прямо указывал на то, что заголовок его первой книги вызван к жизни тютчевским воздействием. «…Камень Тютчева, что, «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут рукой»- есть слово»,- написал Мандельштам.
Поэт, влюбленный в отечественную историю и в родной русский язык, Осип Мандельштам, подобно своим великим учителям, был отличным знатоком и приемником ряда лучших традиций мировой литературы. Он хорошо знал и любил античную мифологию и щедро пользовался ее мотивами и образами, знал и любил поэтов античных времен – Гомера, Гесиода, Овидия, Катулла.
В 1915 и в 1916 годах в поэзии Осипа Мандельштама появились отчетливые антицаристские и антивоенные мотивы. Цензура не дала поэту обнародовать стихотворение 1915 года «Дворцовая площадь», в котором она с полным основанием усмотрело вызов Зимнему дворцу, двуглавому орлу. В 1916 году поэт написал два антивоенных стихотворения, одно из которых появилось в печати только в 1918 году. Это стихотворение «Собирались эллины войною…» направленно против коварной, захватнической политики Великобритании. Другое антивоенное произведение – «Зверинец» - вышло в свет после революции, в 1917 году. Прозвучавшее в нем требование мира, выражало настроение широких народных масс, как и призыв к обузданию правительств воюющих стран.
Так еще в канун революции в творчество Осипа Мандельштама вошла социальная тема, решаемая на основе общедемократических убеждений и настроений. Ненависть к «миру державному», к аристократии, к военщине сочеталась в сознании поэта с ненавистью к буржуазным правительствам ряда воюющих европейских стран и к отечественной буржуазии. Именно поэтому Мандельштам иронически отнесся к деятелям Временного правительства, к этим врагам мира, стоявшим за продолжение войны «до победного конца».
Исторический опыт военных лет, воспринятый отзывчивым сердцем поэта, подготовил Мандельштама к политическому разрыву со старым миром и принятию Октября. При этом возникшее у поэта отвращение к сердечно-холодной интеллектуальной элите, к снобизму также содействовало его отходу от акмеистической группы. Литераторы из «Цеха поэтов» стали ему духовно чуждыми. Нравственно опустошенные эстеты вызывали у него раздражение и негодование.
«Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту… Чувствую себя должником революции…»,- писал Мандельштам в 1928 году.
Все написанное поэтом в этих строках было сказано с полной, с предельной искренностью. Мандельштам действительно тяготился «биографией» - традициями семейной среды, которые были ему чужды. Революция помогла рубить путы, сковывающие его духовные порывы. В отказе от ощущения личной значимости было не самоуничижение, а то духовное самочувствие, которое было свойственно ряду писателей-интеллигентов (Брюсову, Блоку и др.) и выражало готовность пожертвовать личными интересами во имя общего блага.
Такого рода настроения выразились на страницах второй книги поэта – сборника «Tristia», - в стихах, написанных в период революции и гражданской войны.
Книга «Tristia» представляет по сравнению с книгой «Камень» принципиально новый этап эстетического развития Мандельштама. Структура его стихотворений по-прежнему архитекторична, но прообразы его «архитектуры» лежат теперь не в средневековой готике, а в древнеримском зодчестве, в эллинистическом зодчестве. Эту особенность являют и самые мотивы многих стихов, мотивы обращений к культурам античной Греции и древнего Рима, к поискам отражения эллинистических традиций в Тавриде, в Крыму.
Стихотворения, вошедшие в сборник «Tristia», подчеркнуто классицистичны, иные из них даже своими размерами, своей поэтической «поступью»: «Золотистого меда струя из бутылки текла…», «Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…».
В «Камне» человек нередко представал игрушкой рока, судьбы, «ненастоящим», жертвой всепоглощающей пустоты. В «Tristia» человек – центр вселенной, труженик, созидатель. Небольшое, восьмистрочное, стихотворение с присущей Мандельштаму точностью слов - «определений» выражает гуманистические основы его миропонимания:
Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.
Этим преклонением перед человеком, верой в него, любовью к нему проникнуты и стихи о Петербурге, созданные в годы гражданской войны. Стихи эти трагичны, Петербург – Петроград – Петрополь казался Мандельштаму умирающим городом, гибнущим «в прекрасной нищете». И уже не слова – «определения», а слова – метафоры выразили на сей раз мандельштамовскую веру в человека, бессмертного, как природа:
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.
(«В Петербурге мы сойдемся снова…»)
Любовная тема занимает небольшое место в лирике Мандельштама. Но и она в «Tristia» существенно иная, нежели в «Камне». Если в «Камне» любимой исполнен печали, удаленности от мира, бесплотности (стихотворение «Нежнее нежного…»), то в «Tristia» он земной, плотский, и сама любовь, - хотя и мучительная, трагичная, - земная, плотская (стихотворение «Я наравне с другими…»).
Осип Мандельштам прошел определенный путь развития от «Камня» до «Tristia», он принял революцию, приветствовал новую современность, но, будучи воспитан в традициях идеалистической философии истории, не постиг ее социалистического содержания и характера, и это, безусловно, стало помехой к тому, чтобы открыть страницы своих произведений новым темам и новым образам, рождаемым новой эпохой.
Между тем революционная современность все более властно входила в жизнь страны и народа. Осип Мандельштам, несомненно, чувствовал, что его поэзия, искренняя и эмоциональная, нередко оказывается в стороне от современности. Все больше и больше стал он задумываться над возможностями и путями преодоления известной отчужденности его поэзии от современной жизни. Нет сомнения в том, что он серьезно думал и относительно собственного духовного роста, но этот рост тормозился пережитками общедемократических представлений и иллюзий, преодоление которых все еще не давалось поэту с должной полнотой и основательностью. Думал он и о языковой «перестройке» своей лирики, о возможностях и путях обновления языка.
Стихи первой половины двадцатых годов отмечены стремлением к «опрощению» языка, к «обмирщению» слова, - по языку, образности, жанровым особенностям и поэтическому строю они существенно отличаются от стихов сборника «Tristia». Обновление языка шло у Мандельштама в различных направлениях – к предельной простоте, к поистине прекрасной ясности и к неожиданным, «небывалым», усложненным сравнениям и метафорическим конструкциям.
Итак, большая простота и ясность, простота простейшего повествования, песенки, романса:
Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка,
Гляжу – изба, вошел в сенцы -
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка.
Мандельштам – поэт с обостренным интересом к истории, к историческим параллелям, со стремлением мыслить широкими историческими обобщениями – пору напряженно думает о прошлом, о современности, о будущем, о связях прошедшего с грядущим, об отношении современности к минувшему и к исторической перспективе.
В раздумьях о современности у Мандельштама – поэта выступает впервые столь отчетливо «сформулированная» тема острых идейных конфликтов. В стихотворении «1 января 1924» она предстает в форме сильного, драматичного конфликта. Поэт ощущает себя пленником умирающего XIX века, его «больным сыном» с твердеющим в крови «известковым слоем». Он чувствует себя потерянным в современности, вскормившей его – своего ныне «стареющего сына»:
О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Однако Мандельштам не хотел сдаваться «власти преданья», подчиниться давлению прошлого. Он противопоставляет этой роковой власти, этому тяжелому давлению голос совести и верность присяге, которую он дал победившему в революции новому миру:
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
На заре нового десятилетия, тридцатых годов, Мандельштам ринулся в жизнь. Он совершил чрезвычайно важное для него путешествие в Армению, которое дало в его творчестве обильный «урожай» - поэтический и прозаический. Появились цикл стихов об Армении, очерковая повесть «Путешествие в Армению». Произведения эти стали большими удачами писателя, они и по сие время читаются с любовным вниманием.
Многое взволновало в Армении поэта – ее история, ее древняя культура, ее краски и ее камни. Но больше всего обрадовали его встречи с людьми, с народом молодой советской республики.
Мандельштам не лукавил, никогда и ни в чем. Его поэзия все больше, все откровеннее выражала состояние его духовного мира. И она говорила о том, что прилив бодрости, испытанный им в Армении, был именно приливом. Но довольно скоро волна бодрых чувств пошла на спад, и поэт снова погрузился в мучительные, нервические раздумья о своем отношении к современности, к новому веку.
Приезд в Ленинград в конце 1930 года, - приезд в город его детства и юности, в город революции – вызвал у поэта очень разные стихи: и ясные, просветленные, и горькие, скорбные. Тема расчета с прошлым сильно прозвучала в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…». Но еще несколькими неделями ранее Мандельштам написал стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», где выражено ощущение трагической связи с прошлым – связи эмоциональной памяти, где не оставалось места для восприятия нового, современного.
Поэзия Мандельштама становится в начале 30-х годов поэзией вызова, гнева, негодования:
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, -
Смотри, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, -
Ручаюсь вам - себе свернете шею!
В середине 1931 года в стихотворении «Полночь в Москве…» Мандельштам снова продолжает разговор с эпохой. Он снова борется с мыслью о том, что может быть не понят новым веком. Он пишет о верности демократическим традициям.
Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
Чтоб я теперь их предал?
В ноябре 1933 года Мандельштамом были написаны стихи против Сталина
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца...
В своих воспоминаниях о поэте Мандельштаме Анна Андреевна Ахматова привела знаменательную фразу, произнесенную им в Москве в начале 1934 года: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» и прочел ей свое «крамольное» стихотворение о Сталине – «Мы живем, под собою не чуя страны…».
13 мая 1934 года Мандельштам был арестован и выслан в Чердынь. Арест очень тяжело сказался на Мандельштаме, временами у него наступало помрачение сознания. Не признавая и все же каждодневно ощущая себя “тенью”, изверженной из мира людей, поэт проходит через свое последнее искушение: поддаться иллюзорному соблазну вернуться в жизнь. Так возникает “Ода Сталину”. И все-таки работа над “Одой” не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения.
Стихотворение «Если б меня наши враги взяли…» было так же задумано во славу Сталина под влиянием все туже затягивающейся петли вокруг шеи еще живого поэта. Однако, предполагая сочинить нечто вроде хвалебной оды, Мандельштам увлекся силой сопротивления и написал торжественную клятву во имя Поэзии и народной Правды. И только финал выглядит в этом контексте пристегнутым и фальшивым добавлением:
Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире,
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет,
И что народ, как судия, судит;
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б,
Я не смолчу, не заглушу боли,
И раскачав колокол стен голый,
И разбудив вражеской тьмы угол,
И поведу руку во тьме плугом,
И в океан братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы,
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочие вспыхнут земли очи.
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
Наперекор постоянной житейской неустроенности, наперекор все развивавшейся нервной болезни, продолжался идейно-эстетический рост поэта. Накапливались мысли, чувства, образы, выражавшие не только решимость Мандельштама дружить с веком, но и его реальную, неразрывную духовную связь с ним.
Так называемые «воронежские тетради» (1935-1937) – безусловно, крупное поэтическое явление. Несмотря на незавершенность, фрагментарность ряда стихотворений, «тетради» представляют нам высокие образцы проникновенной патриотической лирики. Многие из тех благородных мыслей и чувств, которые накапливались и росли в сознании и сердце Мандельштама, получили свое поэтическое воплощение в строках «воронежских тетрадей», остававшихся долгое время, до 60-х годов, неизвестными советским читателям.
В воронежских стихах господствуют мотивы исповедальные, мотивы самораскрытия духовного мира поэта. Но при этом значительно шире, чем прежде, предстают в них черты эпические, черты облика современности, освещенные авторским отношением.
Насколько четче, определеннее, политически конкретнее стали лирические признания поэта:
Я должен жить, дыша и большевея…
(«Стансы»)
Перед лицом обрушившихся на него бед больной поэт сохраняет силу и мужество, чтобы в тех же «Стансах» заявить:
И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен.
Как «Слово о полку», струна моя туга…
В марте 1937 года, больной, предчувствующий скорую смерть, поэт писал о своей дружбе с жизнью, о своей преданности людям:
И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!
(«Заблудился я в небе, - что делать?..»)
2 мая 1938 года повторный арест. В лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года Осип Мандельштам умер. Все было кончено.
Эпоха, век ждали от Осипа Мандельштама большего, чем он сделал, - он знал об этом, знал и мучался этим. Он не сумел быстро расстаться со всеми «родимыми пятнами» прошлого. Но все, что было им написано, все было создано честно, убежденно, искренне, талантливо. Все было написано умным, трепетным, ищущим мастером.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.М.Л. Гаспаров «Эволюция Метрики Мандельштама».
2. Э.Г. Герштейн «О гражданской поэзии Мандельштама».
3.Александр Кушнер «Выпрямительный вздох».
4.Александр Дымшиц «Заметки о творчестве О.Мандельштама».
« Я в мир вхожу…»
(творчество О. Мандельштама)